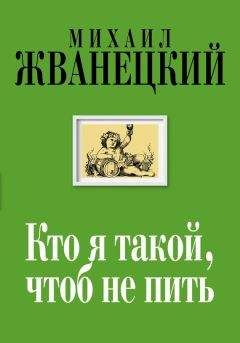Только с теми, кто тебя понимает…
– Сыночка! Ну, разбил нос… Ты сейчас не плачь. Плакать всегда успеешь… Сейчас мы приложим лёд… Остановим кровь… Вытрем носик… Побежишь во двор. И плачь там, сколько хочешь.
– Я там плакать не буду.
– Напрасно. Там столько народу. И твои друзья там. Плачь там.
– Не буду.
– А я сказала – плачь!
– Не буду.
– Всё, беги… И смотри, не забудь – плакать.
– Не буду.
– Ну и слава богу.
– Михал Михалыч, в нашем театре лежит ваша пьеса.
– Что вы! Я никогда не писал пьес.
– Я говорю, лежит у нас. Мы читали. Прекрасная пьеса.
– Да… Если хорошая… Значит, это я. Вот так. Могу, значит… А я не знал… А когда я её написал?
– Замечательная и такой неожиданный финал.
– Да? А я думал, ожидаемый…
– Нет… Нет… Неожиданный. Но, вы знаете, в нашем театре правило: автор должен оплатить постановку.
– Какой неожиданный финал… Вы же знаете, я не пишу пьес.
– Она замечательная, в вашем стиле.
– Да… Конечно. В моём стиле, замечательная, но я не пишу пьес и денег не дам.
– Публика будет умирать от хохота.
– Не дам.
– Там копейки – режиссёру и на постановку.
– Не дам.
– Вы же не писали ничего крупного. А тут вдруг создали и так лихо закручено. Все сказали – это вы.
– Не дам.
– Ну, не давайте. Заплатите хотя бы автору.
– Не дам.
– Ну, машинистке.
– Не дам.
– 100 долларов.
– Не дам.
– И на цветы режиссёру?
– Не дам.
– Значит, не вы… А мне кто-то сказал, что вы… Жаль…
– Не жаль, а жалко! Это другое понятие слова «жаль».
* * *
Новая власть перестала говорить: «Подойдите сюда, пожалуйста».
Она шипит: «И-зда! И-зда!»
Когда они говорят «и-зда», ты понимаешь, что бежать поздно.
* * *
У нас не могут смириться со смертью.
Когда спрашиваешь:
– Где здесь живёт Яша Койф?
– Это тот, который умер?
– Да.
– Второй этаж, квартира двадцать три.
Спросишь в Кобулети:
– У кого самая высокая телевизионная антенна?
– У Габо.
– Кто семь лет сидел за чай?
– Габо.
– У кого две «Волги» и «ЗИМ»?
– У Габо.
– Кто продал городу мусорную свалку?
– Габо.
– Кто устроил этот хипеж с железом?
– Габо.
– О чае с ним ни слова. Он семь лет сидел за чай.
На «Шота Руставели», когда в круизе Одесса – Батуми отдыхал Габо, был особый климат.
Пока Габо сидел за стойкой бара, все подходящие могли пить бесплатно.
Хотя он сидел за чай.
Все, кто с Габо купался в бассейне, получали впервые в СССР прямо в воду горячий кофе и шоколад.
У всех, кто с Габо сидел ночью в ночном баре, – утром без стука открывалась запертая изнутри дверь каюты.
Туда вносились пакеты с холодным пивом «Праздрой» и воблой.
Если Габо брал с собой экипаж на прогулку в ущелье Эшеры – работали все водопады и был красивый закат.
И с экипажа за это не брали ни копейки.
Теперь за всё берут и ничего не дают.
* * *
Старый доктор Вайштуль. Восемьдесят лет. Честнейший человек. Ординатор в больнице. Он приходил в восемь вместо девяти. Он уходил в шесть-семь вечера. Он не сидел в ординаторской. Сидел в коридоре напротив палаты, где находились его больные. Он уходил домой и звонил каждый вечер в одиннадцать часов: «Как больные?»
Никто не мог без него дать порошок. Аспирин без него не давали. Лаборатория, которая даёт анализы с потолка, его боялась. Он сам приходил и смотрел в микроскоп. Он сравнивал клинический ход с анализом. Он преследовал недобросовестных лаборантов. И ему предложили уйти на пенсию.
И дело не в том, что вся его жизнь в этой больнице. А для врача опыт и глаз – как для хирурга рука и школа. Но у них свои планы. Он слишком честно заполнял историю болезни. А вы знаете, история болезни умершего человека должна быть идеальной. Она обязана приводить его к смерти без всяких колебаний и нежелательных моментов. Она после смерти тщательно переписывается. Где уж тут уцелеть честному человеку.
* * *
Я был на первом кинофестивале «Золотой Дюк» под руководством Говорухина…
На втором «Золотом Дюке» под руководством Марка Рудинштейна… Там… вообще у меня был белый смокинг, и Марк заставил меня принимать Альберто Сорди… Лично!.. Ужас!
Я знал Сорди как родного, он меня не знал вообще.
Поэтому мы промолчали весь ужин…
Я пытался ему объяснить, где находится Одесса. Он не понял, и я замолчал…
Я был советский человек. Он был капиталист.
Хуже вечера не было…
Я снял белый «торнадо» или «токсидо» и сошёл с Олимпа…
* * *
– Завтра я еду на рыбалку, – сказал я.
– Значит, у нас будет рыба! – закричала семья.
– Я этого не сказал. Я сказал – завтра я еду на рыбалку.
– Так, может быть, не ехать, а просто?
– Я никому не позволю вмешиваться! Всё! Чтоб была рыба, когда я вернусь!
* * *
Он жестикулирует даже перед диктофоном.
Ему всё кажется, что он непонятен.
Все разговоры начинаются одинаково.
– Который час?
– Полдесятого.
– Правильно. Ходить надо.
– Я и хожу.
Он высокий, худой, и часы у него были.
– Японцы ходят. Они не бегают. Ходить надо.
– Я и хожу.
Я пытался обогнать его, он продолжал.
– Японцы ходят десять тысяч шагов. Меньше они не ходят. И нам нельзя. У них шажки маленькие. У нас большие, но не туда. Оттуда, куда мы бежим, не возвращаются. Японцы мелко-мелко, не спеша. И долго идут, идут. Который час?
– Без двадцати.
– Да… Надо ходить. Какой смысл бежать? Ни поговорить, ни осмотреться. Когда идёшь – видишь жизнь… А что такое видеть жизнь – это в ней участвовать. Тот, кто не хочет, начинает с того, что не видит жизнь. Идите, идите.
– Я иду, иду.
Он еле плёлся, я почти бежал. Я не мог его обогнать. Он был высокий, худой и сумасшедший.
– Который час?
– Без десяти.
– У нас холодное лето. А они умирают от жары. Мы никогда не вступим в Европу. Что мы им можем предложить? Отравленную воду? Их же деньги? Женщин? Вот, может быть, женщин. На Украине ничего нет. Значит, женщин. Который час?
– Ровно!
– Да. Решено. Женщин.
Я обогнал его не на подъёме. А на развороте он ушёл вперёд. Я ушёл назад.
Семья. Он – толстяк в шортах, на плохо вымытых ногах, девочка рыдает, и жена тащит её волоком.
– Который час?
– Без двадцати одиннадцать. Ясно тебе, сволочь, тебе ясно, чтоб ты сдохла, понятно?
– Спасибо, молодой человек.
Навстречу папа с мальчиком лет четырёх.
– Который час?
– Без четверти одиннадцать.
– Спрячь игрушку… Мы идём на море. Там дети набегут.
– Да я этих детей за одну минуту передушу!
– Всё равно спрячь, давильщик.
Киоск с этикетками. Внутри пыльная тётя с книгой.
– Который час?
– Одиннадцать.
– Они уже не привезут… Они до десяти привозят.
– Что?
– У меня пиво кончилось. Девочки! Сладкая минеральная вода! Девочки!
– Извините, а где вы добываете сладкую минеральную?
– Они привозят.
Четыре козы на задних ногах объедают кору. Хозяин с палкой.
– Который час?
– Десять минут двенадцатого.
– Проходите сюда.
– Зачем?
– Это я не вам. Манька, Зойка! Проходите сюда. Не объедайте у дороги.
Козы пошли вглубь.
– Спасибо.
Жующая коза с молоком уставилась на меня.
Она жевала и смотрела, как я иду мимо.
Ну, лицо – олигарх.
Ни вопроса, ни ответа, ни выражения…
Жуёт, смотрит.
Солдаты на обочине прокладывают кабель.
Выпрямились, я им сразу:
– Четверть двенадцатого.
Снова согнулись.
Никто не носит часы в этом опасном месте.
Мишечка! Я же тебе не чужой. Все-таки муж твоей хоть и не родной, но тёти. Я о тебе беспокоюсь, о твоей семье…
Мишечка, что такое талант?
А? На как долго он может обеспечить?
Как ты лично думаешь?
А? Год! Два!
И то последние полгода с трудом?…А?
То есть последние полгода талант даёт копейки.
Ты, как говорится, ходишь-ходишь, говоришь-говоришь, а талант кончился на полуслове! А ты продолжаешь говорить, а его нет.
И куда идти?
Охранником – нищета. Сторож с фонарём – не для тебя. Лопатой окапывать в галстуке – копейки.
Куда пойдёшь, фактически не знаешь.
Как талант кончится, ты и на нуле.
А то, может, перерыв сделаешь, чтоб на потом хватило?
Уже и дети, и эта тошнит, наверное. Твоя… Как ты, мол, меня обеспечишь?
А как ты обеспечишь… Ты что, быстрее писать будешь? Ха-ха, тебе ж ещё продать. Написать – это полбеды. Ещё ж продать. Кто ж это всё купит? Ты ж должен артисту доказать, что это смешно. Как ты докажешь? Судом? А ему же денег жалко – как ты его рассмешишь, он же, пока ты читаешь, всё в уме складывает, делит, прикидывает. Он не слушает ни черта, верно? Он все слова пересчитает!
У вас от количества слов? А? Нет?
Слушай, я тут на Достоевского смотрел.