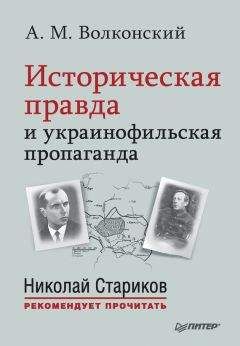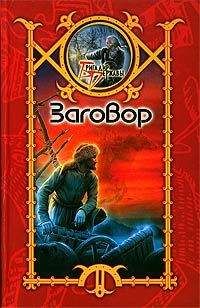– Вот видите! – торжествующе сказал сосед. – Что я говорил! Фоменко – сила!
– Почти как пурген, – фыркнула мама.
Сосед опять совсем не обиделся и говорит:
– А то!
И пошел к выходу.
Марсик его проводил – но не как дорогого гостя, а типа выпроводил.
– За тебя обиделся, – сказала мама.
– Просто ему Фоменко не нравится.
– Видимо, – подытожила мама.
Бабыра вот тоже, когда ей мама похвасталась, что у меня книжка вышла, решила, что я написала руководство какое-то. Типо методичку.
Так и сказала:
– Я, говорит, тоже писала в молодости методички – как макулатуру комсомольцам собирать.
– А че ее собирать-то? – сказала мама. – У нас в подъезде лежит выброшенных сто томов Донцовой – вот комсомольцам и подспорье.
– Ну да, – согласилась Бабыра. – Один как-то принес собрание сочинений Ленина, разрозненные тома без обложки – хотел под шумок сдать как макулатуру.
– И?
– Из комсомола поперли.
– Так ведь и правда это была макулатура, – задумчиво сказала мама.
Верный ленинец Бабыра почему-то не обиделась и говорит:
– А кто его знает – макулатура или не макулатура? Никто ведь не читал это собрание.
– Почему? – возразила мама. – Один наш знакомый, доктор марксизма-ленинизма, прочитал всё – от корки до корки.
– И что потом с ним было?
– Жена в дурдом сдала. Как раз когда он последний том добивал, и его сразу приняли. Хотя там тоже конкурс типа тендер. Кто кого безумнее.
Бабыра перекрестилась:
– Я ж говорю, читать вредно.
– Зато писать полезно, – сказала мама. – Диля спокойнее стала – сидит себе тихо и что-то там пишет. Меньше ругается.
– Ленин тоже все время что-то писал, – неожиданно сказала Бабыра. – А потом сделал революцию. Войну дворцам и мир хижинам объявил.
Тут даже мама застыла с открытым ртом.
Готовя этот том (что вы в руках держите), встретилась с редакторшей – новой уже, тоже молодой и красивой.
Редакторша (раньше она меня не видела) говорит мне:
– Ой, а вы ничего себе так. Даже вблизи.
– ?!
– Слишком много рассказов про толщину и что вы – вылитый Дерсу Узала.
– Мне еще говорили, что я похожа на Ким Ки Дука, когда без косметики.
– Кто без косметики – Ким Ки Дук?
– Ага. Совсем перестал краситься: из благородства. Чтобы я на его фоне лучше выглядела.
– У нас с вами всего полтора часа: на троллинг нет времени.
– Ладно, ладно, молчу.
Ехала в такси.
Ругала власть.
Таксист спросил, не депутат ли я (???).
Потом сказал, что если я такая умная, могла бы создать рабочие места.
Я сказала, что создала.
Для корректоров, редакторов и художников.
– А вы кто? – спросил таксист.
– Графоман, – говорю.
– А че они тогда с вами носятся?
– Сама удивляюсь.
– Вот видите, а вы ругаете власть – а ведь наша власть даже графоманам, таким как вы, помогает.
Ну, я и развела руками.
Человек – это звучит гордо
Один мой молодой алма-атинский родственник, типа троюродный брат, похвастался своему дяде-аксакалу, что я типа писатель.
Аксакал затребовал подтверждения.
Брат дал аксакалу мою книжку.
Аксакал был потрясен, сказав, что не ожидал, что в Москве смеются над такой чепухой.
Но поскольку аксакал ценит Горького, брат ему сказал, что вот, мол, Диля тоже ведь пишет про «босяков».
Аксакал произнес задумчиво:
– Горький сказал, что человек звучит гордо, а у Дили человек звучит как-то так не очень гордо. Можно сказать, совсем даже и не гордо…
Брат ему возразил, что, мол, с тех пор как человек звучал гордо, босяки в России сильно изменились.
Тогда аксакал сказал задумчиво:
– Они и в Казахстане изменились.
– Ну, вот видите! – сказал брат.
– Но не до такой же степени! – возразил аксакал.
Два рассказа о литкритике Василии
Этим летом мама попала в больницу, и я ее каждый день навещала. А во дворе больницы есть курилка, где мужики заседают – кто с поломанной ногой, кто с рукой, а кто и с головой забинтованной. И вот, разговорившись с ними, я пообещала им назавтра принести свои рассказы (книжка тогда еще не вышла): вслух почитать.
На следующий день, как и обещала, захожу со своими листочками в палату на семь человек, а там всего один остался – с сильным переломом, и около него мамаша его сидит.
– А где (говорю) мои слушатели?
– Выперли их всех (сказал он мрачно).
И тут, с опаской взглянув на мамашу, произнес осторожно:
– В смысле выписали…
Мамаша замахнулась на своего сына-инвалида и говорит:
– Выписали, ага. Как же. Выперли за пьянку! У, ирод! (Она опять замахнулась на сына.)
Тут в палату зашел полуголый мужик и говорит:
– Зато вот меня взяли. Меня Василием зовут (он галантно ко мне наклонился). У меня – видите – ребра сломаны: а я в очереди стоял. И вот дождался. И все благодаря вам!
Я удивилась: при чем тут я?
А Василий говорит:
– Они все утро кричали: щас писательница придет, рассказы будет читать! И по этому поводу бутылку припасли. Но не дождались вас и сами выпили. А тут пришел главврач и сказал, что ему тут пьяные не нужны. Они стали оправдываться, что ждут писательницу, а главврач покрутил пальцем у виска, сказав, что Донцова по палатам не промышляет, и всех выпер. Честно говоря, я им тоже не верил: а оказывается, вы и правда пришли.
Мамаша инвалида посмотрела на меня внимательно и говорит:
– Вы че, и правда этим алкашам свои рассказы хотели почитать?
Я кивнула.
– Про че рассказы-то хоть? Про любовь они не любят…
– Да не, не про любовь. Скорее, про жизнь.
Инвалид со своей кровати тут же откликнулся:
– Вы же говорили, что там и про пьянку будет?
Мамаша поджала губы и говорит:
– Все ясно. Одна шайка.
Василий вдруг говорит:
– Оставьте мне почитать. Я книги люблю. Пикуля всего прочитал.
Я говорю:
– На Пикуля я мало похожа.
– Эт точно (произнесла мамаша с презрением, окинув меня взглядом).
– Разберемся (сказал Василий). Я вам завтра верну ваши рассказы.
Назавтра я, посетив маму, пошла к Василию забрать свои листочки. И у нас с Василием состоялся такой разговор.
Василий, которому «Иваныч зачем-то ребра поломал кочергой на даче после пяти бутылок беленькой», встретил меня холодно.
– Ну как? – спросила я из чистого любопытства, поняв по его виду, что мои рассказы не произвели на него особого впечатления.
– Если честно, – сухо произнес Василий, – так себе. Не понравилось. Пикуль лучше пишет.
– С Пикулем, конечно, мне трудно тягаться, – согласилась я.
– В том-то и дело! – вдруг обрадовался моей скромности Василий. – Пикуль, он пишет… ну… в общем… ну… как это сказать?
– Возвышенно? – подсказала я.
– Во! Серьезно он пишет, про исторических персонажей всяких там, царей и прочее. А вы про каких-то алкашей типа Иваныча, который мне ребра зачем-то переломал. А этот Колян ваш – вообще какой-то несусветный (он так и сказал – «несусветный»). Че ему надо-то? Какую-то херню несет, разве что не дерется, как Иваныч… Философ, ептить… Кому это надо – еще и читать про это? Такого и в жизни навалом. Я вот и фильмы не люблю про деревню – ну ее! Все пьяные и дерутся: что хорошего-то? Я вот механик, на работе меня уважают, даже бригадиром одно время был. Сам я не сильно пьющий и этого беспредела не люблю… А у вас, к примеру, соседи зачем-то подрались в день рождения Пушкина. Мне даже Пушкина стало жаль – как и участковому, про которого вы пишете: я все внимательно прочитал, я человек обстоятельный. Прав участковый: могли бы хотя бы в его день рождения драться не так сильно или вообще не драться. Безобразие!
– Ну, хоть что-то понравилось? – спросила я с робкой надеждой (кстати, я не смеюсь, мне важно, чтобы простому человеку было понятно).
– Одна вещь, – сказал Василий задумчиво. – Про этого министра, который хуй запретил. Я даже вслух прочитал: все смеялись, хотя (Василий покосился на кровать у окна, где дремал какой-то старик, и перешел на шепот) – Лексеич серьезную операцию перенес, и лет ему немало…
Тут при упоминании своего имени проснулся старик Лексеич и сказал:
– Про министра – прально! То, что водка подешевела, – это хорошо, а вот что слово запретили – эт как? Правильно написали! Надо запаковать в конверт и в министерство это выслать! Или прямо Путину! Что, Путин, штоле, не матерится? Уверен, что матерится, и еще как! Наш человек!
– Он все больше намеками, – сказала я. Вместо этого слова говорит про половые органы дедушки. Или иногда – бабушки.
– Не слыхал, – сказал Лексеич солидно и с какой-то даже обидой за Путина. – Правда, и мата от него не слыхал. Может, он только между своими?