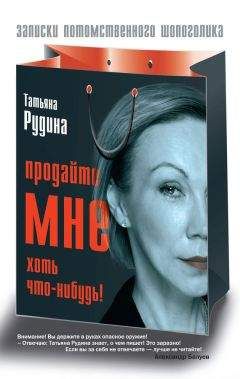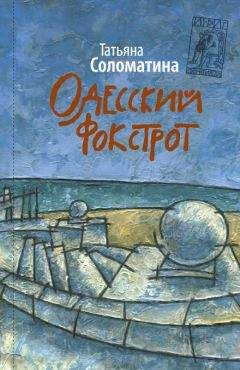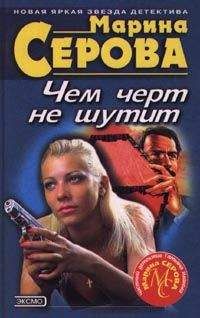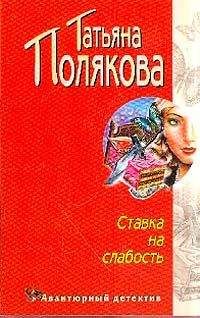И у собственного бассейна, от которого я бы, правда, не отказалась, меня тоже не фотографируют в другом прекрасном платье, лежащей на шезлонге и с йорком на коленях.
Я вряд ли пойду по ковровой дорожке за своим Оскаром.
И даже если меня пригласит на собственную яхту какой-нибудь завалявшийся миллионер, я вряд ли возьму хоть одно из них с собой в чемодан.
Что же это тогда? Скажите! Я что, идиотка? Наверно!
Каждый раз, когда я решаюсь купить очередную вечерку и продавщица говорит мне:
– Как вам идет!
Я отвечаю:
– Это совершенно неважно, я его все равно не надену, просто это моя мечта о красивой жизни.
И я хочу, чтобы эта мечта висела у меня в шкафу.
Она так ближе.
Как-то давно еще я, шарясь по магазинам, увидела красный бархатный костюм. Красный-красный. Кричащий костюм.
Я его померила, конечно, но не купила – испугалась цвета. Ну куда такой красный? Я вообще всегда к красному очень осторожно относилась.
Нарядный, эффектный, но больше одного раза не наденешь. Да и дорогой ужасно. И ушла из магазина. И забыла о костюме.
Через какое-то время, может, через месяц, я сидела дома и пила шампанское. А шампанское я всегда любила, пока суровая бабка из-за покера и этот крантик не перекрыла.
Надо сказать, что оно на меня всегда так действует, шампанское, как ничто другое. От первого же глотка во мне просыпается такой вкус к жизни, такая радость бытия! На несложном уровне. А именно на чисто природном. Я так всегда любила этот первый именно глоток!
Но потом, когда идет уже третий бокал, там другие ощущения появляются. Там уже идет попытка философского осознания бытия, но опять-таки в радостном ракурсе.
И вот, философски осознавая бытие, я поняла, что единственное, чего мне не хватает в этой жизни, это того красного бархатного костюма. Потому что только он в тот момент гармонировал с моим богатым внутренним миром. И осознав это, я стремительно, со скоростью пожарного, оделась и побежала как на пожар в этот магазин.
А вечер был уже поздний. И бежать было далеко. Но я неслась, как какая-то сирена, и долетела до магазина минут за десять до его закрытия.
– Где красный костюм? – прокричала я.
– Какой костюм? – спросила продавщица таким испуганным голосом, будто боялась, что я ее собираюсь пытать.
– Красный бархатный! Месяц назад мерила!
– Его продали давно, – промямлила продавщица еще более испуганно.
– Как же такое могло случиться? За что? Ну почему со мной всегда так? Что же делать? Что делать, я вас спрашиваю? – говорила я этой продавщице и двум другим, выскочившим на подмогу.
Они смотрели на меня с ужасом, понимая, что горе мое велико, а уходить я никуда не собираюсь.
– А что у вас еще красное есть? Все показывайте! Только красное!
Вот такой внутренний мир был в этот момент. Красный.
– Да ничего вроде нет, если только в подсобке посмотреть, – извиняясь, сказали девушки.
Эта информация меня заинтересовала. Мне никогда еще не предлагали посмотреть в подсобке.
– А что у вас там?
– Да там только старая коллекция. На склад будут увозить.
– Показывайте, – разрешила я.
И меня повели в подсобку.
А там на вешалках плотно-плотно висели шикарные вещи со скидкой чуть ли не девяносто процентов!
Мой внутренний мир тут же изменил палитру. Вместо банального красного он превратился в радугу! Я поняла, что нельзя так узко смотреть на вещи. Тем более за такие деньги.
И я купила себе тоже вечерний брючный костюм, тоже бархатный, только темно-синий. Красивейший и за смешную цену.
А эти милые девушки сказали:
– А у нас еще много всего в ящиках, не хотите взглянуть?
Но в этот раз я не захотела, потому что мне стало их жалко. Но я им обещала вернуться.
В этот магазин я больше не возвращалась, потому что было все-таки немного стыдновато, как я их напугала.
Но про ящики я не забываю никогда, даже за границей прошу показать, что у них в подсобке.
И самое смешное, что мне показывают. Даже без шампанского.
Из Википедии:
Соц-арт – одно из направлений постмодернистского искусства, сложившееся в СССР в семидесятых годах двадцатого века в рамках так называемой альтернативной культуры, противостоящей государственной идеологии того периода.
К концу девяностых соц-арт исчерпал себя, так как с изменением политической ситуации содержательная основа этого искусства стала неактуальной.
...
Загорелся зеленый свет для пешеходов. Пережидающие водители видели, как сутулый обрюзгший человек медленно переходит дорогу со своей собакой. Собака была без поводка. Она сильно хромала. Было видно, что человек идет не торопясь, давая возможность собаке не отстать. Собака была обычной дворняжкой, а хозяин – обыкновенным бомжом.
Бомжом этот человек, разумеется, был не всегда. Но уже давно. А раньше он был художником.
Бомжа звали Гриша, а свою собаку он звал Дуней. Собака была старой. Гриша точно не помнил, сколько ей лет. Он подобрал ее еще только что родившемся щенком. Коробка стояла прямо у входа в продовольственный магазин. В ней и лежала слепая еще Дуня. Гриша выкармливал ее молоком. Сначала из пипетки, потом из соски.
Тогда еще он не был бомжом. Он жил в мастерской на Чистых прудах. Мастерская досталась ему от его товарища, художника-баталиста, который давно переехал в Израиль. Он уехал еще в девяностых, там, в Израиле резко сменил жанр – стал писать натюрморты и пейзажи и с успехом продавался в местных галереях.
А мастерская осталась в полном Гришином владении, пока жильцы не решили приватизировать чердачный этаж. Вот именно тогда Гриша стал бомжом.
Дело в том, что он нигде не был прописан уже много лет. Оставив жене квартиру, когда они развелись, Гриша прекрасно существовал в этой мастерской и совершенно не задумывался о том, что мастерская – это не квартира и прописаться в ней нельзя.
Но сказав, что он прекрасно существовал, надо тут же оговориться. Потому что к моменту потери последней жилплощади он уже давно был никому не нужен как художник. И мастерская последние годы была именно жилплощадью, а не местом для творчества.
Поначалу Гришины картины охотно выставляли в галереях, хотя он никогда не был в числе ведущих представителей соц-арта. А когда моде на соц-арт пришел логический конец, он совпал с концом Гриши как художника. Гриша сильно пил к тому времени. Нет, пил-то он всегда, но писал при этом, а в эпоху перемен он просто запил.
Появление Дуни, как ни странно, многое изменило в его жизни. Выкармливая только что родившегося щенка, он даже завязал с крепкими напитками. Стал пить только вино и пиво. И вообще, эта собака принесла в его жизнь какой-то смысл, давно, казалось бы, утраченный. Было о ком заботиться. А самое главное – его любили как никто и никогда раньше.
Он любил вести с Дуней философские беседы о смысле бытия и о том, какие же все падлы и сволочи, о стране, в которой его угораздило родиться и которую он не смог оставить, как это сделали его более умные собратья по цеху. Хотя какие они к черту собратья? Никто ни разу в жизни ничем не помог, хотя живут в полном шоколаде в Америке и Германии. Один баталист и был товарищем. И тот тоже забыл уже о Грише.
Оказавшемуся вместе с Дуней на улице Грише некуда и не к кому было идти. Совсем. И окунувшись в мир бомжовой жизни, он понял, что никогда он не сможет и здесь найти друзей.
А бомжи не живут в одиночку, они существуют группами, даже кланами – так легче выжить. Но Гриша, будучи одиночкой по своей сути, не смог пристать ни к одной из этих групп.
Он выживал один, вернее, вдвоем с собакой.
И так получилось, что весь смысл его существования свелся к существованию этой самой собаки. Главной его заботой была Дуня. Его не волновало, чем он будет питаться и будет ли вообще есть сегодня или завтра. Но накормить собаку он был обязан. Попрошайничеством он не занимался никогда, даже в самые тяжелые моменты, то есть зимой. Дуне он никогда не позволил бы сидеть на улице с банкой для денег между лап.
Но поскольку люди, как известно, жалеют собак больше, чем людей, еда для Дуни находилась всегда. И Грише еще перепадало. Сначала в старом магазине на Покровке, где он нашел Дуню, всегда подкармливали. Потом магазин закрыли, и стало труднее, но все равно что-то всегда находилось, да и в церквях стали обедами кормить.
Больше всего Гришу волновало то, что Дуня очень резко сдала в последнее время. А сейчас, когда приближалась очередная зима, Гриша больше всего боялся, что собака не переживет мороза.
Жили они в одном долгострое на Речном вокзале. Жили там уже несколько последних лет. Но там не было крыши. Только перекрытия. И зимы последние два года были страшно холодными. И если сейчас будет такая же – Дуня не выживет. А если собака не выживет, то зачем ему еще жить?
Вот так думал Гриша. Вернее, он уже не думал ни о чем уже давно. Мысли были только конкретные и связанные с сиюминутным моментом. Про Дуню были не мысли. Про Дуню было только единственное оставшееся в его душе чувство.