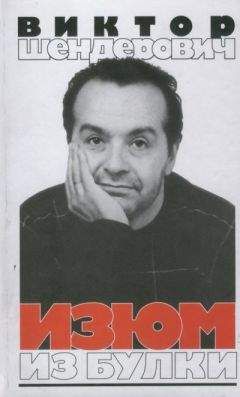Минут через десять он протяжно выкрикнул женское имя. Вошла секретарша, и Быков широким дугообразным жестом передал ей вынутый прямо из машинки горячий лист — на полосу!
Я оторопел.
— Быка, — говорю, — ты с ума сошел. Ты хоть перечитай, чего написал!
— А чего там читать, — отвечает это дите Парнаса. — Там все нормально.
— Девушка, — говорю, — дайте листик.
И вот я читаю быковскую колонку, написанную при мне за десять минут этого бедлама, — и холодею от зависти. Потому что это — хороший текст! С мыслью, с композицией, с юмором, с внутренними перекличками. Без единой синтаксической ошибки или опечатки.
Вот же гад…
— один из сценаристов гайдаевской классики.
Однажды я видел своими глазами (и имел счастье рассказать об этом Якову Ароновичу), что такое настоящая слава.
Дело было в московском артистическом клубе в начале двадцать первого века. В полумраке над стойкой работал телевизор — без звука, как часть дизайна и осветительный прибор. И пошла по телевизору «Кавказская пленница»…
Кто-то из сидящих в зале «поймал» и озвучил одну реплику. Из-за соседнего столика тут же подали следующую. Постепенно в игру включились другие столики…
И мы озвучили фильм до самого конца!
Текст отскакивал от зубов — страна знала его наизусть.
…мы встретились с Костюковским совсем незадолго до его смерти. Девяностолетний Яков Аронович предупредил:
— Виктор, я вам сейчас скажу слова, которые мне почти некому сказать.
И после паузы произнес:
— Я рад вас видеть.
— Я останавливаю съемки на год, — заявил Алексей Герман. — Мне нужен падающий лист…
— Но ведь еще только октябрь, — робко возразил кто-то.
— Этой осенью лист падает не так, — отрезал Герман.
— Мне очень нравятся женщины, — сказал Резо Габриадзе, — но они такие странные…
— Да чем же странные?
— Им нравятся мужчины!
Парадокс у Габриадзе — не попытка остроумия, а воздух, которым дышит этот нежный гений.
— Виктор, знаете, что такое двадцать первый век? Это когда едешь по Осло, а тебе звонят из Канберры и говорят: «Вам направо».
Или:
— …Ах, Виктор, я самый трусливый человек на свете, но под диваном больше нет места…
Его трусость — особого рода.
— Я уже тридцать лет борюсь с грузинским народом… — посетовал как-то Резо. — У меня возле дома есть маленькая цветочная клумба. Очень маленькая. Я посадил там фиалки.
Вздох и завершение экспозиции:
— Но людям короче идти через клумбу, чем ее огибать…
Пауза, дающая собеседнику время уяснить экспозицию.
— На следующий год я посадил фиалки снова. Их снова вытоптали.
Пауза.
— Еще через год я посадил фиалки в третий раз…
Резо подвесил еще одну паузу — и взял в руки невидимые монтажные ножницы:
— Так мы и прожили эти тридцать лет. Я весной сажаю фиалки, но люди идут только прямо.
Вздох притворной покорности пролетел по веранде тбилисского кафе, и сюжет вышел на коду:
— И постепенно я стал приходить к выводу, что, возможно, они меня победили…
Дело было в семидесятые годы прошлого столетия.
Петр Наумович Фоменко поставил в Тбилиси спектакль. Банкет по этому случаю имел место в гостинице «Иверия», в ресторане, располагавшемся на высоком этаже.
Когда тосты пошли на второй десяток, слово взял немолодой грузин торжественного вида.
— Я хочу предупредить, — сказал он. — Если кто-то не выпьет со мной этот тост — клянусь, я выпрыгну в это окно!
И, подняв бокал, произнес:
— За великого сына Грузии, вождя народов, Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина!
В драматической тишине раздался голос Петра Фоменко:
— Прыгай, сука.
Дело было в середине шестидесятых.
Михаил Козаков, зайдя навестить маму, застал у нее немолодую пару: русского эмигранта, приехавшего по случаю «оттепели» посмотреть на Родину, и его жену, француженку.
К прискорбию, она не понимала по-русски и участвовать в разговоре не могла.
А разговор как раз пошел об «оттепели», о поэзии, о классических именах, только-только легализованных после смерти Сталина: Мандельштам, Цветаева…
Из Цветаевой молодой вдохновенный Козаков и начал читать — «Попытку ревности». Недавно узнавший эти великие строки, он с пылом неофита спешил поделиться ими с миром.
Как живется вам — хлопочется —
Ежится? Встается — как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?
Немолодой эмигрант слушал с большим интересом.
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой
Гипсовой?..
— Замечательно, — вздохнул гость.
Потом мужчины отошли к окошку покурить.
— А знаете, Михаил, — помолчав, сказал гость, — это стихотворение посвящено мне… А труха гипсовая — вот.
И показал на свою жену. Та церемонно поклонилась. К счастью, она совсем не понимала по-русски.
— Вот, — скорбно молвил бородатый детина рядом со мной. (Дело было в ЦДЛ, у книжного развала.) — Рубцов! Гноили его, не печатали… А умер — оказалось: гений!
Он помолчал и добавил:
— Вот и я так же.
В семьдесят пятом году на экраны вышел фильм «Звезда пленительного счастья». Молодой артист Владимир Качан спел там песню Булата Окуджавы на музыку Исаака Шварца — ту самую, про кавалергардов.
Может быть, век и недолог, — но не у этой песни!
Счастливая судьба «Кавалергардов» обеспечила артиста надежным куском хлеба. К концу третьего десятилетия, однако, этот кусок начал вставать у Качана поперек горла: где бы он ни выступал, дело неизбежно заканчивалось «кавалергардами».
Россия и заграница, рабочий класс и трудовое крестьянство, элитарные залы и «чес» по клубам… Десятилетия напролет, не реже двух раз в неделю… И взгляд туманится слегка.
В общем, Качан допелся!
Как-то, под восьмое марта, его позвали выступить перед работницами ЗАГСа. Артист запел «Кавергардов» и пел, как говорится, на автомате, пока, на словах «не обещайте деве юной любови вечной на земле», не уперся взглядом в надпись «Комната жениха»…
Маленькая Мила и ее мама привезли из Одессы подарок для дедушки — соломенную шляпу с кантом.
— Какая прекрасная шляпа! — воскликнул дедушка. — У нас в Тамбове до революции продавали такие шляпы!
Он немного помолчал и закончил:
— Их надевали на лошадей.
Дедушке (тому самому мальчику Володе, чье скрипичное выступление сорвала Великая Октябрьская революция — см. т. 1, с. 223) было уже за восемьдесят, когда его увезли в больницу с инфарктом.
Юная, едва вошедшая в совершеннолетие внучка Мила, моя будущая жена, пришла навестить дедушку, и тут выяснилось, что в больницу привезли и после обеда покажут — кино.
Больные расселись в холле (внучка села рядом с дедушкой), киномеханик наладил аппарат, запустил пленку и пошел курить на крылечко.
Кино оказалось зарубежное и почему-то без перевода. Называлось — «Весенняя прогулка». Или «Летний денек». Или что-то еще в этом роде. В общем, что-то легкое, ни к чему не обязывающее…
Содержание и впрямь было довольно немудреным. Три девушки сели на велосипеды и поехали в поля. На опушке они встретили юношу. Девушки раздели юношу и начали им заниматься, не забыв достать из сумочек искусственные фаллосы… Это была немецкая порнушка, каким-то неведомым путем перекочевавшая в народ из комсомольских закромов.
Сначала немолодой контингент кардиологического отделения ничего не понял, а потом все понял и поднял страшный крик. Советские бабушки побежали искать начальство. А киномеханик курил себе на крылечке…
Наконец его нашли — и процесс был прерван на самом интересном месте («О-о, йa, йа, даст ист фантастиш»).
Дедушка, все это время молча сидевший рядом с юной внучкой, так же молча поднялся, и они пошли в палату. Разговаривать после такого совместного просмотра было не то чтобы не о чем, но — затруднительно…
Молчание прервал Владимир Вениаминович.
— Знаешь, Милочка, — задумчиво сказал он, прислушиваясь к организму, — кажется, мне пора на выписку.
«Дедушка Володя», а на самом деле давно уже прадедушка, девяностолетний Владимир Вениаминович стоял вплотную к телевизору, наклонившись к экрану и качая головой. Он был глуховат, и звук был включен на полную катушку. Играл какой-то скрипач…