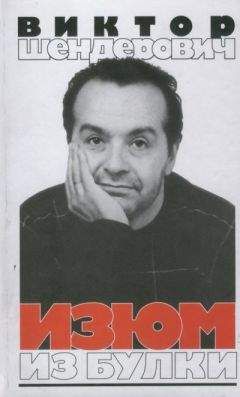Пархоменко похолодел.
— Как с Лебедевым?
— Да, вы знаете, он тоже удивился моему звонку, — признался Туманов.
— Что он сказал? — спросил заинтригованный Пархом.
И Туманов, помолчав, ответил:
— Он сказал: твою мать! Я ж его на прошлой неделе уже разводил!
…повадилась ходить дочь Рауля Валленберга.
Собственно, о том, что она дочь Рауля Валленберга, никто, кроме нее, не знал, зато она сама знала это твердо!
Немолодая женщина изводила сотрудников подробными описаниями своей жизни, полной сюжетов, которым позавидовал бы Дюма… Она подстерегала немецкого посла и преследовала его с криками «Верните мне моего отца!».
Сумасшедшая.
Однако ж несчастную надо было как-то спровадить, и посол поручил Ирине А., сотруднице посольства, поговорить с женщиной по душам, дать высказаться… Авось потом оставит в покое.
Ну, надо так надо. Ирина усадила ее в своей комнатке, дала чаю и села напротив, чтобы выслушать вполуха заведомый бред. Слушала, слушала — и вдруг поняла, что все это может быть правдой!
Уж больно многое совпадало — даты, обстоятельства…
Сердце ее забилось в сильнейшей тревоге — чего не бывает на свете! Она уже была почти готова поверить в невозможное, когда «дочь Рауля Валленберга» сказала:
— И тогда моя мать, Мария Каллас…
Посильно участвуя в тамошней избирательной компании, мой иерусалимский приятель Марк Галесник получил заказ на изготовление нескольких тысяч маек с эмблемой некой партии.
Дешевле всего это было сделать, разумеется, не у евреев, и Марк нашел подходящую арабскую лавочку под Иерусалимом. Хозяин предложил заказчику присесть и налил кофе. Марк неторопливо выпил кофе, беседуя ни о чем: Восток дело не только тонкое, но и несуетное…
Наконец он изложил дело. Узнав о размерах заказа, хозяин пересадил Марка в кресло поудобнее. Цену обсудили за второй чашкой, и тут гость перешел к самой тонкой части вопроса, предупредив, что в деле есть некоторые препятствия…
Араб сделал жест, совершенно исключающий наличие каких бы то ни было препятствий к тому, чтобы он получил несколько тысяч долларов прибыли!
Марк, придвинувшись, сообщил пикантное обстоятельство: речь идет о майках для израильских выборов.
— Прекрасно! — воскликнул хозяин лавочки, и на лице его появилась счастливая улыбка: он всю свою жизнь мечтал именно о том, чтобы поработать на какую-нибудь израильскую партию.
— Я вас должен предупредить: это правая партия, — сказал Галесник.
— Замечательно! — воскликнул хозяин лавочки. — Все будет готово через два дня!
Но Марк решил довести эксперимент до конца — и, еще приблизившись, шепотом сказал:
— На майках должно быть написано: «Смерть арабам!».
— Я сделаю в три цвета, — без паузы ответил хозяин лавочки.
Мечта любого писателя — деталь, образующая портрет…
Письмо дяди Бони из израильского города Ашдод выпало на юного Марика из кипы старых родительских бумаг. Написано оно было в 1964 году на половинке знакомого всем советским школьникам тетрадного листа — за две копейки, с красными полями… — а на Марика выпало в 1990-м.
Марик, уже имевший к тому времени планы отъезда на ПМЖ, дяде Боне написал наугад — и вскоре получил ответ. Содержание ответа не так важно, как его материальное воплощение: письмо было написано на другой половинке того же тетрадного листа…
В Одессе живет фантастический человек — Борис Давыдович Литвак.
Дом на Пушкинской улице, с золотым ангелом над входом, где уже много лет бесплатно лечат детей, больных церебральным параличом, с бесплатной гостиницей для матерей по соседству… — этот дом один искупит половину грехов черноморского побережья.
Боречка (так он представляется друзьям, когда звонит) — человек алмазной крепости. Бывшего мэра Одессы он, депутат горсовета, много лет называл в лицо «гражданин Боделан», поясняя, что именно так принято обращаться к заключенным.
Боречка считал, что Боделану следует привыкать к такому обращению.
Когда «дом с ангелом» незадолго до выборов, в пиаровских целях посетила жена президента Украины, Боречка подвел итоги ее визита так:
— Приезд мадам Кучмы, — сказал он журналистам, — идет у нас со знаком плюс: после ее приезда ничего не пропало…
Художник Борис Жутовский (в дружеском просторечии — Боба) широко известен общественности с осени 1962 года: именно ему были адресованы знаменитые хрущевские слова на выставке в московском Манеже — об «абстакцистах и пидарастах»!
Спустя почти полвека, вслед за сексуальной принадлежностью, «абстракцисту» Бобе в одночасье поменяли принадлежность национальную…
Он стоял в московском дворе-колодце у своей мастерской и осторожно клал в машину холсты. Был тихий летний день. Через двор шла женщина средних лет, интеллигентного вида, в очечках. Возле Бобы, которого она видела первый раз в жизни, женщина остановилась и сказала:
— Завтра небось опять про Холокост врать будете!
И ушла.
С тех пор, не без вызова заявляет русский шляхтич Жутовский, я — законный еврей!
Название для графической серии Жутовского придумал Фазиль Искандер: «Последние люди империи». Были среди этих людей и гении, но встречались и убийцы.
Одного из них, генерала НКВД Судоплатова, Боба рисовал в начале восьмидесятых.
Бывший заместитель Берии предавался воспоминаниям. На постели, в глубоком паркинсоне, лежала генеральская жена Эмма Карловна и эхом повторяла ключевые слова. Под этот страшноватый парный конферанс Жутовский увековечивал черты одного из главных убийц эпохи.
— В начале тридцатых, — мерно излагал Судоплатов, — в Одессе появились антисоветские листовки. Написаны они были явно молодым человеком… Мы его, конечно, быстро нашли…
— Нашли-и… — сладострастно отзывалась Эмма Карловна.
— Нашли и тех, кто за ним стоял, — продолжал генерал НКВД. — Их всех, конечно, расстреляли. А насчет мальчика Косиор велел: не трогать.
Судоплатов взял паузу и завершил сюжет.
— И мальчика не тронули!
Он еще помолчал, суммируя прожитое, и вздохнул:
— Много было гуманного… Много…
— Мно-ого… — отозвалась Эмма Карловна.
Виктор Шкловский, позируя, рассказывал Жутовскому подробности из жизни Лили Брик, и мемуары эти были самого непарадного свойства. И интриганка, и стерва, да и блядь впридачу.
Через пару часов Жутовский закончил работу:
— Поеду, Виктор Борисович.
— А вы сейчас куда?
— К себе, на Кутузовский.
— О! Подвезете меня? — спросил Шкловский.
— Конечно, Виктор Борисович. А куда подвезти?
— К Лильке поеду, чай пить.
Однажды Жутовский решил обзавестись, для солидности, костюмом, и по рекомендации друзей пришел к портному Соломону Ефимовичу, обшивавшему Литфонд.
— Что будем шить? — поинтересовался пожилой Соломон.
— Тройку, — твердо ответил Боба.
Соломон одобрил солидность выбора:
— По возрасту, по возрасту… Матерьяльчик?
— Свой.
Боба предъявил ткань. Соломон оценил:
— Финский. Хорошо-о… Приклад?
— Ваш.
— Пра-авильно…
Соломон внимательно оглядел клиента и не спросил, а констатировал:
— И мы не спешим.
— Нет!
Портной снял размеры, они договорились о примерке…
— Простите, — сказал на прощанье Соломон. — Последний вопрос. Вот на вас пиджачок… Это чья работка?
Жутовский назвал имя.
— Я не спрашиваю, как его зовут, — печально уронил портной. — Я спрашиваю: кто он по профессии?
Сидели в мастерской Жутовского — сам Боба, Игорь Губерман и Александр Городницкий… На троих им было двести сорок лет, но квадратная бутылка виски пустела с хорошей скоростью.
Классики пили — я, допущенный к процессу, пригубливал.
Губерману надо было идти, но уж больно хорошо сиделось в той мастерской, и уходил он около часа… Но все-таки — пора было в путь, и Губерман (младший из классиков) произнес прощальный тост:
— Давайте выпьем за то, чтобы, когда мы встретимся в следующий раз, мы узнали друг друга…
В любви и смерти находя
Неисчерпаемую тему,
Я не плевал в портрет вождя,
Поскольку клал на всю систему, —
написал Губерман в семидесятых годах прошлого века.
Сажать за стихи было неловко — поэтому система судила Игоря Мироновича за скупку краденого. Друг Губермана, Всеволод Вильчек, был свидетелем этого удивительного процесса.