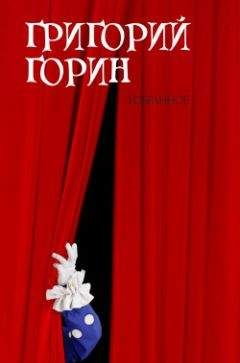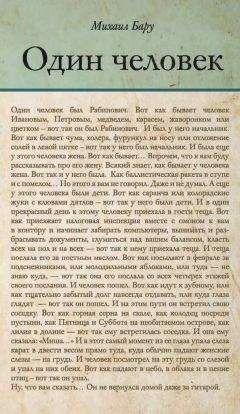— Я вижу, вы за ценой не постоите…
Девочка лет шести-семи, показывая на древнюю пишущую машинку «Мерседес», еще не тюнингованную, с ручной коробкой и без кожаной отделки, спрашивает у отца, для чего она.
— Это, Танюш, такой старый-старый принтер. Ему лет сто, а то и больше.
Ребенок, не дослушав ответ, показывает на диван красного дерева, обитый темно-синей тканью в голубой цветочек.
— Смотри, пап, какой диван красивый. Сколько ему лет?
— Да он еще старше машинки. Первая половина девятнадцатого века. Сто пятьдесят лет ему.
Девочка внимательно присматривается к дивану.
— Пап, а на нем сидели. Еще видно. Он мятый.
— Да это, блин, тут сидели разные… — бормочет отец.
— Они же все умерли давно, а как сидели осталось… Здорово! — восклицает Таня и бежит в другой зал.
— Все умерли, — думаю я, и мой указательный палец, которым я тайком потрогал подлокотник чип-пендейловского кресла, густо краснеет.
Семья — родители лет шестидесяти и дочь лет тридцати — внимательно осматривают гарнитур из карельской березы.
— Хороший гарнитур, — говорит мамаша.
— И столик компактный, — поддакивает ей дочь. Даже на кухне у нас встал бы.
— А я бы взял картину, — мечтательно говорит отец семейства, глядя на сельский пейзаж в дубовой раме. — Уж больно козы там хороши…
В маленькой проходной комнате, за каким-то массивным комодом или секретером, стоит изящная банкетка орехового дерева, обитая зеленым бархатом. Кто-то на ней сидел. Кто-то шуршал юбками и обмахивался веером после нескольких туров кадрили и вальса. У кого-то развязался бант на атласной бальной туфельке и у того, кому разрешили его завязать, так закружилась голова, что он вышел на улицу, прошел полквартала, сел в метро и поехал домой.
* * *
При Иване Грозном царский выход обставлялся очень торжественно. Государь одевался с исключительной пышностью. Даже носовой платок его был заткан золотом и обшит драгоценными камнями до такой степени, что вытереть им нос до крови или расцарапать пот со лба было проще простого. Случалось, Иван Васильевич в припадке смирения и услужливости подзывал Шуйского или Бельского и предлагал свой царский платок:
— На, вытри сопли-то. Ишь распустил. Не хошь сам — тебе Малюта вытрет…
Из того времени к нам и дошла поговорка «ни кожи ни рожи», имеющая непосредственное отношение… Ну да я не об том. О выходе. Свита была одета также богато. Обычно отдавался приказ, в какой быть одежде. Ежели кто по бедности не имел подходящей случаю одежды, то тем из царской казны выдавались праздничные ферязи, фелони и армани. Само собой, одежду выдавали под роспись и после церемонии сдавали, потому как сегодня ты в свите, а завтра, к примеру… не приведи господь. Мало кто знает, но обычай этот, выдавать одежду из царской казны, сохранился до наших дней. К приему верительных грамот одного африканского посла свите Ельцина было выдано: костюмов от Версаче — тридцать комплектов, швейцарских часов Патек Филипп — пятьдесят пар[9], туфель английских кожаных — сорок одна штука[10], денег для оттопыривания карманов — шестьсот восемьдесят две тысячи долларов, золотых цепей — пятьдесят три метра и два парчовых бюстгальтера, отороченных горностаем. К чему я это все рассказал? А к тому, что с того дня, как вещи были получены, этих свитских не видел никто. Даже африканский посол поклялся, что не видел, хоть его и во время допроса дергали за кольцо в носу до голубых искр из черных глаз.
Между прочим, одних горностаев на оторочку бюстгальтеров пошло до ста двадцати хвостиков[11]. Не то чтобы горностаев этих… а интересно было бы взглянуть…
* * *
Удивительное дело — еще в семнадцатом веке в обычае у москвичей было ритуальное омовение рук и подметание жилища после общения с иностранцами. Прошло каких-нибудь триста с лишним лет, и мы уже моем руки и тщательно подметаем свои жилища перед встречей с ними. Неизменно только одно — встречи с иностранцами много способствуют чистоте наших рук и жилищ. Кстати сказать, иностранцы тоже ведут себя непоследовательно — раньше обижались, что мы моем и подметаем после, а теперь недовольны, если не моем и не подметаем до. Черт их разберет, басурман этих.
* * *
Как Михаил Андреевич приказал долго жить — так сейчас же комиссию по организации похорон, венки, подушечки. ЦК плакал, Политбюро плакало, Леонид Ильич так слезами обливался, что его два раза во все сухое переодевали. И то сказать — второй человек в партии помер. Это сейчас их три и никто не заметит потери не только бойца, но и всего отряда, а тогда…
После похорон как стали законные наследники имущество его делить, так обнаружилось, что делить толком и нечего. Жил Суслов скромно, точно аскет, — даже телевизор у него был старый-престарый, еще с деревянными лампами. Он, правда, и его не смотрел. Больше любил диафильмы. Там можно ручку покрутить у фильмоскопа, а в телевизоре ручка только для переноски была. Он пробовал носить, но тогда смотреть было неудобно. А без дела он не только сидеть, но и лежать не мог. Из одежды у покойного имелись, большей частью, ордена да медали. Он ими, как святая Инесса волосами, мог прикрываться. Из продуктов нашли наследники в холодильнике кусок заветренной языковой колбасы, просроченный кефир и в хлебнице, расписанной под Хохлому, бублик с маком и две дырки от уже съеденных. Какой-то праздник был революционный перед тем, как ему богу душу отдать, и старик решил себя побаловать. Кажется, еще калоши отыскались ненадеванные, подбитые изнутри малиновым бархатом, траченая молью каракулевая папаха и, из драгоценного, авторучка с золотым серпом и молотом. Вот еще ножнички были маникюрные, трофейные. Но Михаил Андреевич ими стриг не ногти, а волосы в ушах. К старости они у него зарастали ужасно. И в этих зарослях застревали слова десятками. И шевелились. Вечно у него были голоса в ушах. Ему казалось, что вражеские, и он их выстригал, выстригал… Все равно, раз в полгода приходилось ему ходить к ухогорло-носу. Там молоденькая сестричка, даже и не без приятности, ему эти словесные пробки вытаскивала. Однажды, правда, нашлось слово, пролежавшее в среднем, кажется, ухе, чуть ли не с довоенных времен. Некоторые буквы в нем успели оторваться. Но сестричка была глазастая — смогла прочесть. С тех пор сестричку-то никто и не… Впрочем, нам все эти подробности без надобности. Наш рассказ о другом. Была у Суслова библиотека. Он ее всю жизнь собирал. Мало кто о ней знал мало. Многие вообще ничего не знали.
Само собой, имелись там раритетные издания классиков марксизма-ленинизма. К примеру, практическое руководство Энгельса «Построение развивающего социализма в отдельно взятой с вещами на выход семье» с подробными выкладками — сколько жене полагается по способностям мужа и сколько нужно от мужа, чтобы удовлетворить потребности жены. Или рукопись книги Ленина «Шаг вправо и два шага налево», написанная в целях конспирации почерком Инессы Арманд. Была у Суслова еще и шкатулочка краснеющего дерева, в которой хранился пепел от рукописи второго, так и ненаписанного тома «Капитала»[12]. Но это все вещи обычные, хоть и редкие. А вот берестяной партбилет члена новгородской партийной ячейки еще домонгольского времени или протокол партийного собрания второго штурмового манипула третьей когорты гвардейского легиона имени постановления сената о проскрипциях врагов римского народа армии Квинтилия Вара перед Тевтобургским сражением были документами бесценными. И это не все! Имелись в библиотеке такие уникумы, как папирус «Послание к Уклонистам», написанный на древнеармейском[13] языке. Я даже не упоминаю средне вековую миниатюру из коммунистического часослова «Карл Великий разоблачается перед Партией»[14] или записки комиссара стрелецкого полка, которым командовал Лаврентий Сухарев.
И стоило все это таких огромных и таких несоветских денег… Кинулись родственнички, кинулся специальный инструктор, присланный из ЦК, а библиотеки-то и нет. Только шкаф стоит пустой с распахнутыми дверцами и какой-то высохший таракан в самом углу шевелит надкрыльями как будто живой, а на самом деле…
Как только эту библиотеку не искали, кого только к поискам не подключали — ни пепла от рукописи «Капитала», ни даже и шкатулочки от пепла не нашли. На втором или на третьем году перестройки объявился в столице какой-то партийный расстрига — то ли бывший пятый секретарь пермского обкома, то ли седьмой киевского, утверждавший, что библиотеку найти может, потому как знает нужные заклинания. Не всякому, дескать, откроется место, где укрыта библиотека, но тому, кто сможет усыпить ее хранителей. И для этих самых целей он в квартире покойного Михаила Андреевича будет ночь напролет стоять в специальной трибуне и читать без единой остановки доклад Леонида Ильича на двадцать четвертом съезде КПСС, держа при этом в левой руке неугасимую лампочку Ильича, каковую ему выдали, выкрутив из самого мавзолея.