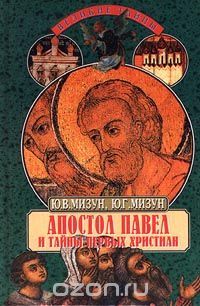Дамкин потряс свиньей, деньги зазвенели.
– Звенят, - подтвердил Дамкин. - Неси молоток!
– Э-э! - протянул Стрекозов. - Жалко такую вещь разбивать. Может, попробуем так деньги достать, а в копилку потом будем еще собирать?
– Крутая идея! - одобрил Дамкин. - Гости приходят, а мы им: "Вот свинья-копилочка, у нас, понимаете ли, традиция, чтобы каждый гость кидал сюда всю мелочь, что лежит у него в карманах!"
– Сейчас ножом все вытащу, - Стрекозов побежал на кухню. - А ты пока штаны свои гладь!
– Есть! - отсалютовал по-пионерски Дамкин и противным голосом запел:
– Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!
Глава следующая
О том, как художник Бронштейн ехал к Дамкину и Стрекозову
Он умен, - подумал Иван, - надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные.
М. Булгаков "Мастер и Маргарита"
Художник Бронштейн ехал в автобусе, глядя прямо перед собой тупым взглядом американского наркомана. Мрачная небритая физиономия художника настолько отпугивала пассажиров, что, хотя в автобусе было тесно, место рядом с ним никто не занимал. Бронштейн интеллигентно держал под мышкой тубус с новыми картинами. По его уголовной роже пробегали тени, а сам он мысленно рисовал новый гениальный холст.
Иван Бронштейн был весьма оригинальным типом. Его лицо можно было бы назвать симпатичным, но сделать это не решился бы даже сам Стрекозов. Его нетривиальная внешность - бритая под ёжика голова, трехнедельная щетина, которая отрастала у него за два часа, драные джинсы - просто-таки притягивала к художнику неприятности. То и дело к нему приставали милиционеры с требованием предъявить документы, которые потом тщательно изучались на предмет поддельности.
– Давно из зоны? - спрашивали у Бронштейна менты.
– Не понимаю, о чем вы, - отвечал Иван, терпеливо перенося все жизненные невзгоды.
В милиции он был частым гостем. Его забирали именно за уголовную внешность, часто даже ничего не объясняя, а потом не извиняясь. В отделениях Бронштейн громко требовал ордер на арест, а в тех случаях, когда его сажали в камеры, рисовал на стенах портреты сидящих там уголовников.
Почти во всех отделениях его уже знали и почему-то побаивались. Поэтому вполне резонно можно предположить, что вскоре вся милиция будет знать Бронштейна в лицо и никто уже не станет требовать у него предъявления документов.
А однажды к Бронштейну пришли трое здоровенных парней в кожаных куртках, назвавшихся представителями московского мафиозного клана "Слоны", и предложили художнику убрать кого-то, кто слишком много знал и не желал этого забыть.
– Ребята, вы меня с кем-то спутали, - сказал тогда ласковый Бронштейн. - Я просто художник.
– С такой мордой, и просто художник! - удивились мафиози. - Ну, извини...
Дамкин, узнав, что Ивану предлагали пять тысяч, повалился на диван, дрыгая ногами, что у него означало беспредельное удивление, и заорал:
– Пять тысяч! Да за такие деньги можно пол-Москвы расстрелять из крупнокалиберного пулемета!
Шутил, конечно.
А по натуре Бронштейн был добр и отзывчив. Его друзья - а у него их было немало - не могли на него нахвалиться, и даже соседи по коммунальной квартире, которым он бесплатно рисовал портреты, на удивление любили скромного художника.
Исключением являлся директор макаронной фабрики Семен Абрамович Штерн, жена которого додумалась попросить художника нарисовать ее обнаженной, на что бесхитростный художник естественно согласился. Он любил рисовать с натуры.
Семен Абрамович, увидев картину, закатил скандал жене и обозвал Бронштейна "еврейской мордой", что того весьма удивило, так как он был, увы, русским. С тех пор они враждовали, как бандит Билл Штофф и шериф Джон Кегли из романа Дамкина и Стрекозова.
– Ну, и молодежь пошла! - услышал художник Бронштейн и, очнувшись от своих дум, вернулся из светлого облака своих творческих планов на землю.
Бронштейн и не заметил, как автобус заполнился народом, и даже место рядом с ним занял отвратительный мужик с корявым пропитым лицом и мутными, сонными глазами.
Возмущалась крашенная под блондинку старушка с двумя авоськами в руках и огромной бородавкой на носу.
– Сидит себе и в ус не дует! - бабка ткнула в Бронштейна пальцем. - А пенсионеры с сумками должны стоять!
– Послушайте, - рассудительно произнес Бронштейн, у которого тоже были две тяжелые сумки. - Я занял самое неудобное место в автобусе - над колесом. Вы здесь все равно не поместитесь. Чего же вы возмущаетесь?
– Вот! - радостно закричала старушка. - Он еще и хамит! Никакого уважения к старшим!
– Да, да! - поддакивали сидящие вокруг Бронштейна старухи, которым именно в часы пик надо было ехать по своим неотложным пенсионным делам. Хамье вырастили!
– Бабушки, - сказал Бронштейн. - Меня вырастили не вы. Чего вам надо-то? Вы ведь уже давно на пенсии, хотите сидеть - сидите дома! На фиг в переполненные автобусы лезть?
– Безобразие! - родил вдруг сидящий рядом с художником алкоголик. Такой молодой, а уже сидит!
– Вы тоже не стоите, - заметил Бронштейн.
Новый взрыв негодования был ему ответом. Бронштейну припомнили все: то, что за него воевали, что для него построили развитой социализм, что автобусы ходят, а нехороший человек Бронштейн не уступает место.
Иван отвернулся, махнув рукой, и снова погрузился в свои мысли. Да, жизнь у Бронштейна была на редкость тяжелая.
С работой художнику не везло. То есть вдохновение ни на минуту не оставляло художника, но его картины нигде не принимали. В тех организациях, где сидели ярые антисемиты, ему отказывали сразу же, как только слышали его еврейскую фамилию. А в организациях, где всем заведовали евреи, его сначала встречали ласково, но узнав, что он русский, мрачнели и тоже говорили, что ничего не могут для него сделать. Бедный Иван Бронштейн находился между двух огней и потому рисовал, а потом дарил картины друзьям или иногда продавал гостям с юга. Бронштейн мог нарисовать что угодно и как угодно. У Дамкина и Стрекозова долго висела в комнате картина с прекрасной обнаженной девушкой на фоне красивого озера и плавающих лебедей, но однажды, когда у литераторов не было денег, ее пришлось продать, о чем Дамкин потом очень жалел.
Официально художник Бронштейн работал сторожем на Введенском кладбище. Не потому, что ему очень уж нравилась эта работа, просто прописку в Москве кому попало и за просто так не давали, а за эту работу художнику через семь лет обещали выделить отдельную однокомнатную квартиру. Бронштейн был прописан в коммуналке, где кроме него обитали еще восемь человек, обладавших характером скверным и склочным. Впрочем, со всеми из них добрый художник уживался, но с тех пор, как он повздорил с директором макаронной фабрики Штерном, он полностью переехал в свою сторожку.
– На кладбище спокойнее, - пояснял он друзьям. - Мертвые, они того, смирные. Не орут, не ругаются. Не мешают работать.
Ну, насчет "спокойнее" Бронштейн, конечно, погорячился. В его маленькую мастерскую постоянно приходили многочисленные приятели художника с многочисленными бутылками портвейна. Сам художник Бронштейн спиртного не пил совсем, но друзей принимал с радостью и смотрел на их веселье добрыми, приветливыми глазами.
Год назад в его сторожке прижилась и стала репетировать рок-группа "Левый рейс". Днем они играли душевные похоронные марши, зарабатывая деньги на пропитание, а по ночам сидели в уставленной аппаратурой прокуренной комнатенке, пили заработанное за день пиво и записывали новый альбом, который в конце концов и записали, назвав его "Могильный мрак", после чего уехали отдыхать в Гурзуф, оставив художнику целую гору пустых бутылок.
Не обращая внимания на вопли неунимающихся пенсионерок и на остальных пассажиров, в собственном соку законсервированных в громыхавшем автобусе, Бронштейн ехал к своим друзьям Дамкину и Стрекозову и обдумывал замысел новой картины, где было солнце, море, цветы, красивая девушка и розовый слон... и ни одного переполненного автобуса.
Глава следующая,
в которой Стрекозов закупает пиво
Чтение книг и написание стихов развивают робость и замедляют мышечную реакцию, долженствующую быть немедленной. "Бить или не бить" - вместо простого животного рефлекса-решения становится дилеммой.
Эдуард Лимонов "Молодой негодяй"
– К какой же из девушек мог отправиться Дамкин? - некоторое время прикидывал Стрекозов, пока не решил, что эта девушка ему не знакома, так как к знакомым девушкам Стрекозова Дамкин мог сходить и не гладя штанов, но зато ему не дали бы шесть рублей.
Впрочем, никто не мог знать всех девушек, с которыми был знаком Дамкин. Стрекозов ласково улыбнулся и начал ножом выковыривать деньги из копилки. Набралось шестнадцать рублей восемьдесят четыре копейки.