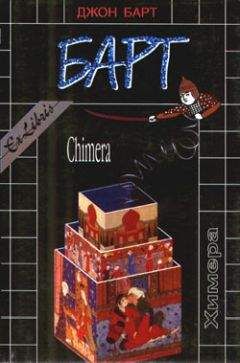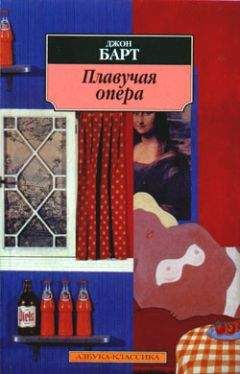П: Перестань скрежетать зубами. Либо соглашайся, либо отказывайся.
Б: Согласен.
П: Готово. Хе. Не хочешь несколько последних слов к миру на свободе? Быстренько.
Б: Мне это ненавистно, Мир! Совсем не то имел я в виду для Беллерофона. А это - гнусная, несуразная беллетристика, полная длиннот, дерибасов и дыр, мучительно мурыжимых метафор…
П: Еще пять.
Б: Это не "Беллерофониада". Это просто
Приложение
ТРАГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ
(Выступление при вручении Национальной книжной премии за 1973 год)
Только три отзыва на повести моей "Химеры" были, по сути дела, отрицательны: в "Книжном обозрении Нью-Йорк тайме", в "Нью-йоркском книжном обозрении" и в "Нью-Йоркере". Не пытается ли этот город мне что-то поведать?
Не буду слушать.
Вместо того чтобы благодарить литературных судей за исполнение незавидной задачи со всей возможной для них ответственностью, я собираюсь поблагодарить нескольких повествователей, чье искусство доставило мне в этом году наслаждение - независимо от того, были или нет их книги номинированы. В первую очередь я благодарю старого волшебника из Монтрё, Владимира Набокова, которому давным-давно пора присудить Нобелевскую премию, и Дональда Бартельми, который был хорош с самого начала и становится все лучше и лучше с каждой новой книгой. А также мастеров старшего поколения, Юдору Уэлти и Исаака Башевиса Зингера, чьи рассказы я читал и изучал на протяжении многих лет; и Ишмаела Рида и Джона Гарднера, творческое воображение которых поистине замечательно.
А еще есть и мой прежний сослуживец по Пенн-стейту[5] Томас Роджерс, чей роман "Признания рожденного веком" выделялся среди номинированных. В 1968 году нам с Томом показалось забавным, что мы оказались первыми за всю литературную историю однокашниками, выдвинутыми на одну и ту же премию: его "Погоня за счастьем" и моя "Заблудившись в комнате смеха" обе не выиграли в том году Национальную книжную премию, уступив ее "Ступеням" Ежи Косинского. То, что нас номинировали вместе и в этом году, мы сочли довольно жутким. Если такое случится в третий раз, мы собираемся написать вместе пенсильванско-немецкий готический триллер, озаглавленный Verhexed[6], и не оставить остальным никаких шансов.
Итак. В письме к герцогу Веймарскому Гёте писал: "Я убежден, что отказываться от высоких отличий почти столь же нескромно, как и упорно их домогаться". Согласен, несмотря на известную претенциозность и эфемерность подобного разграничения. Мы все разделяем трагический взгляд на литературные премии, но было бы так скучно, если бы их не было вовсе, и куда приятнее игнорировать их, сперва выиграв. Стоящей литературной премией, по моей оценке, является та, которая при случае будет присуждена писателю, несмотря на то что он или она ее заслуживает. По этому определению Национальная книжная премия по литературе - стоящая литературная премия; я рад принять ее от имени Шахразады, Пегаса и компании - и той Химеры, которую они всё еще преследуют.
Рассказы по сю пору
Мы встречаем сегодняшнее утро во взаимном недопонимании. Вы ожидали, что я прочту что-либо из своей прозы и о ней поговорю, я предполагал, что буду обращаться к группе первокурсников в рамках программы по их ориентации,- и первоначально планировал именно так и поступить. Интересно, удастся ли мне убить обоих этих зайцев.
Что касается ориентировки университетских новичков в их незнакомом академическом окружении, то здесь я не более чем слепой в поводырях у других слепцов. ‹…›
Посему не следует ожидать от меня достаточно конкретных практических советов. С общей же точки зрения, хочу вам напомнить, что буквально ориентация означает определение того, где находится восток (orient/ориент),- либо для целей архитектуры (если вы строите средневековый собор, вам надлежит расположить его в этом направлении), либо из похоронных соображений (правильно ориентированное тело лежит ногами к восходу).
По-видимому, только к концу девятнадцатого века ориентация стала означать и - как буквально, так и фигурально - определение собственного (место)положения и уже только глубоко в двадцатом стала использоваться в приложении к программе университетских первокурсников. ‹…›
Короче, слово ориентация стало обозначать выяснение, где мы в западном мире находимся, пока все больше и больше из нас приходило к подозрению, что мы этого не знаем. Я чувствую себя в своей стихии. В самом деле, когда я прикинул, что же в моей прозе может подойти к данному случаю, я сообразил, что общий проект ориентации - или по крайней мере условие дезориентации, каковое подобный проект предполагает, - является специфической для меня темой, моим фирменным блюдом. Интеллектуальная и духовная дезориентация - фамильная болезнь всех моих главных героев, болезнь, обычно отягощаемая дезориентацией онтологической, поскольку знание, где ты находишься, сплошь и рядом сопряжено со знанием, кто ты такой.
За последнюю сотню лет по литературе прокатилась, конечно же, настоящая эпидемия этой болезни, что явилось, можно сказать, одной из ее ориентации, как это слово понимают в кристаллографии. Более того, специфическую болезнь академической дезориентации я обнаружил перекочевывающей из одной моей книги в другую, словно гриппозный вирус, с которым считаешь, что вполне свыкся. Уильям Карлос Уильямс замечает в своей автобиографии, что после долгих лет работы практикующим врачом и практикующим поэтом однажды чуть не хлопнул себя по лбу, во внезапной вспышке озарения сообразив, что слово венерический связано с богиней Венерой: эта связь лежала для него слишком на поверхности, чтобы он мог ее заметить. Точно так же и я не вполне осознавал, до чего академической в этом специфическом смысле слова была моя жизнь сочиняющего истории писателя. Как я сейчас вижу, все мои книги относятся к жанру, называемому немцами Erziehungsromane: "роман воспитания", роман учения, - жанру, который не был мне особенно интересен со времен "Дэвида Копперфилда" - разве что как средство сатиры и объект пародии. А сатирические и пародийные его возможности тоже уже весьма и весьма истощены, в этом я не сомневаюсь.
Впав от рассмотрения всех шести моих детищ с этой точки зрения в уныние, я понял, что все эти годы писал не столько об ориентации и обучении (скорее - дезориентации и обучении), сколько о несовершенстве, безуспешности или осечках оного обучения, не Erziehungsromane, a Herabziehungsromane, романы не "учения", а "уничижения". Тот факт, что до прошлой недели я был не в состоянии это понять, весьма показателен: я обязан переориентироваться в собственной библиографии, как время от времени приходится поступать каждому, ретроспективно пересматривая свои взгляды на самого себя в свете какого-то нового продвижения в самопознании, чаще всего - под напором дурных новостей. И эта ориентация тем более своевременна, поскольку работа, в процессе которой я нахожусь, на радость и горе, включает в себя систематическое переложение, переоркестровку, переориентацию тем и характеров из этой самой библиографии: верный признак, что романист перевалил за сорок. Темами этого находящегося в работе произведения являются, как я понимаю, возвращение к отправной точке, переигровка и переориентировка, - как погонщику воловьей упряжки в сезон муссонов или шкиперу севшего на мель корабля иногда бывает нужно, чтобы продвинуться вперед, сдвинуться назад. Будучи и сам мореходом и навигатором-любителем, я люблю метафору счисления проложенного курса: решить, куда двигаться, определив, где находишься, учтя, где был. Так же поступает в Карфагене и у Гадеса Эней; многие из странствующих мифологических героев попадают в некий критический момент своих скитаний в тупик, из которого могут выбраться, только тщательно прослеживая собственные шаги. Таков и ход развития - ежели не тема - моего попятного романа, а также и содержание этой ориентирующей лекции.
Тодд Эндрюс, герой моего первого романа ("Плавучая опера"), поступает в колледж - т. е. записывается на некий определенный курс некоего определенного университета, - чтобы, не обманув ожиданий своего отца, исполнить его чаяния, а не свои. Сам-то он ожидает, что помрет, так и не закончив этой фразы, - от некоего сердечного недуга, которым он, как узнал, служа во время Первой мировой войны в армии, страдает. Большая часть его студенческой карьеры (а также и одной из глав) уходит у него на то, чтобы разобраться, что же, собственно, такое он поделывает в университете; его период, как вы могли бы сказать, ориентации длится почти до самого бакалавриата. Непредсказуемым сменам стиля жизни он подвержен и после университета: в последовательно сменяющие друг друга десятилетия он играет роль либертена, аскета, практикующего циника; кончает он в 54 года (его возраст в романе) сексуально немощным адвокатом-нигилистом из провинциального городка - с хроническим вульгарным воспалением простаты и вялотекущим бактериальным эндокардитом, грозящим осложниться в инфаркт миокарда, - в процессе написания пространного письма своему уже четверть века как с собой покончившему отцу. Плодом его образования, как формального, так и неформального, является следующий веский силлогизм: