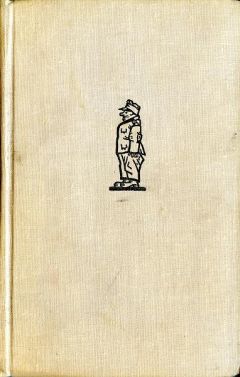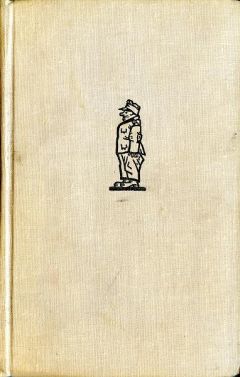Прижатый к стене допрашивающий чиновник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал:
— Вполне понимаю ваше воодушевление, но если оно было проявлено при других обстоятельствам. Вы сами отлично знаете, раз вас вёл полицейский, то проявленный вами при этом патриотизм мог и должен был оказать на окружающих действие характера скорее иронического, нежели серьёзного.
— Итти под конвоем полицейского — это тяжёлый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже и в тот тяжелый момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то думаю, такой человек только достоин уважения.
Чиновник заворчал и ещё раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил своим невинным, мягким, скромным, нежным и тёплым взглядом.
С минуту они пристально смотрели друг на друга.
— Чорт вас разберёт? — пробормотало, наконец, чиновничье рыло. — Но если вы ещё раз сюда попадёте, то я вас вообще ни о чём не буду спрашивать, а отправлю прямо в военный суд в Градчаны[18]. Поняли?
Прежде чем он успел что-либо прибавить, Швейк подскочил к нему, поцеловал ему руку и сказал:
— Да вознаградит вас за это бог! Если вам когда-нибудь понадобится какая-нибудь чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками.
Так очутился Швейк опять на свободе.
Его размышления по дороге домой, не зайти ли ему сперва в пивную «У чаши», кончились тем, что он отворил те же самые двери, откуда не так давно он вышел в сопровождении агента Бретшнейдера.
В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей и среди них церковный сторож из церкви святого Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Паливца, и тупо глядела на пивные краны.
— Вот я и вернулся! — весело сказал Швейк. — Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан Паливец, тоже уж дома?
Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая на каждом слове, простонала:
— Присудили его… на десять лет… на прошлой неделе…
— Ну, вот видите! — сказал Швейк. — Значит, у него семь дней уже за спиной.
— Он такой был… осторожный! — рыдала хозяйка. — Он сам это всегда о себе твердил…
Посетители упорно молчали, словно между ними блуждал дух Паливца и призывал к ещё большей осторожности.
— Осторожность — мать мудрости, — сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пене которого было несколько отверстий от капнувших в кружку слёз жены Паливца, пока она несла пиво на стол. — Уж нынче время такое, которое заставляет человека быть осторожным.
— Вчера у нас было двое похорон, — переводил разговор на другое церковный сторож святого Аполлинария.
— Помер, должно быть, кто-нибудь? — заметил другой посетитель.
Третий спросил:
— Покойного везли на катафалке?
— Интересно бы знать, — сказал Швейк, — как на войне будут хоронить убитых.
Посетители немедленно поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался один с трактирщицей.
— Не могу себе представить, — произнёс Швейк, — чтобы невинного осудили на десять лет. Что одного невинного осудили на пять лет — это я слышал, но десять — это уж, пожалуй, слишком!
— Мой-то, когда давал показания, — плакала жена Паливца, — как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так повторил и в управлении и на суде. Вызвали меня свидетельницей, но что я могла им сказать, когда мне заявили, что я могу отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем… Я так испугалась этих родственных отношений, как бы из-за этого еще чего-нибудь страшного не вышло, что отказалась от свидетельских показаний. Старик, бедняга, так на меня посмотрел… умирать буду — не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, как крикнет им там на лестнице, словно с ума совсем сошёл: «Да здравствует свобода!»
— А пан Бретшнейдер сюда уже не ходит? — спросил Швейк.
— Был здесь несколько раз, — ответила трактирщица. — Выпьет одну или две кружки, спросит меня, кто сюда ходит, а потом слушает, как посетители говорят о футболе. Они всегда, когда его увидят, переводят разговор на футбол, а его от этого передёргивает — того и гляди, взбесится. За всё это время поймал на удочку только одного, обойщика с Поперечной улицы.
— Это дело навыка, — заметил Швейк. — Обойщик-то был глуповат, что ли?
— Ну, как мой муж, — с плачем ответила хозяйка. — Тот его спросил, стал ли бы он стрелять в сербов. А обойщик сказал, что не умеет стрелять, что только несколько раз был в тире, где каждый раз простреливал корону[19]. Тут мы все услышали, как пан Бретшнейдер оказал, вынувши свою записную книжку: «Вот вам опять новая государственная измена», — и вышел с этим обойщиком, который уже более не возвращался.
— Много их не возвращается, — сказал Швейк. — Дайте-ка мне рому!
Не успел Швейк опрокинуть вторую рюмку, как в трактир вошёл тайный агент Бретшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пива, он подсел к Швейку и стал ждать, что тот скажет.
Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, проговорил:
— Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Рачиневес, продаёт имение с семью десятинами пашни. В селе школа и железная дорога.
Бретшнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку:
— Удивляюсь, почему вас интересует это имение, господин Швейк?
— Ах, это вы? — сказал Швейк, подавая ему руку. — А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приёмной канцелярии полицейского управления. Что с тех пор поделываете? Часто заглядываете сюда?
— У меня к вам дело, — сказал Бретшнейдер. — В полицейском управлении я слышал, что вы торгуете собаками. Мне бы нужен был хороший фокстерьер, или там шпиц, или вообще что-нибудь такое…
— Это мы вам всё можем предоставить, — вызвался Швейк. — Желаете чистокровного или так… с улицы?
— Я думаю остановиться на чистокровном. — ответил Бретшнейдер.
— А почему бы вам не купить полицейскую собаку? — спросил Швейк. — Она бы вам сразу всё выследила, навела бы вас на след преступника. Такой пёс есть у одного мясника на Вршовицах и возит его тележку. Этот пёс, можно сказать, не нашёл ещё своего настоящего призвания.
— Мне хотелось бы шпица, — сдержанно произнес Бретшнейдер, — шпица, который бы не кусался.
— Желаете беззубого шпица? — осведомился Швейк. — Есть такой на примете в Дейвицах, у одного трактирщика.
— Пожалуй, уж лучше фокстерьера… — нерешительно сказал Бретшнейдер, кинологические[20] способности которого были в зачаточном состоянии.
Если бы не приказ из полицейского управления, ему бы никогда и в голову не пришло разбираться в собаках. Приказ же гласил точно, ясно и определённо: сойтись во что бы то ни стало со Швейком поближе на почве торговли собаками, с каковой целью он, Бретшнейдер, имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак.
— Фокстерьеры есть покрупнее и помельче, — сказал Швейк. — Есть на примете два маленьких и три побольше. Все пять совершенно ручные. Могу их вам горячо рекомендовать.
— Это бы мне подошло, — заявил Бретшнейдер. — А сколько стоит один такой?
— Смотря по величине, — ответил Швейк, — всё зависит от величины. Фокстерьер — не телёнок, с фокстерьерами дело обстоит совершенно наоборот, чем меньше, тем дороже.
— Я взял бы покрупнее, дом сторожить, — сказал Бретшнейдер, боясь отяготить секретный фонд тайной полиции.
— Отлично! — подхватил Швейк. — Крупного могу вам продать за пятьдесят крон, самого крупного — за сорок пять. Но мы забыли об одном: вам щенка или постарше, кобелька или сучку?
— Мне это всё равно, — ответил Бретшнейдер, которого допекли эти неразрешимые проблемы. — Так припасите мне одного, а я завтра в семь часов вечера к вам за ним приду. По рукам?
— По рукам, сделано будет, приходите, — сказал Швейк и несколько суше прибавил — В таком случае я бы попросил вас в счёт задаточка тридцать крон.
— Какие могут быть разговоры! — сказал Бретшнейдер, выплачивая деньги. — Ну, а теперь мы с вами разопьём по четвёрке вина на мой счёт…
Наливая пятую четвёрку, Бретшнейдер убеждал Швейка не бояться его, заявив, что он сегодня не на службе, и потому Швейк сегодня может свободно говорить с ним о политике.
Швейк заявил, что он никогда о политике в трактире не говорит, да вообще вся политика — занятие для детей младшего возраста.
Бретшнейдер был, напротив, самых революционных убеждений, провозгласив, что каждое слабое государство обречено на гибель, и выпытывал у Швейка, каков его взгляд на эти вещи.