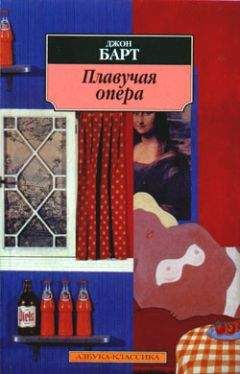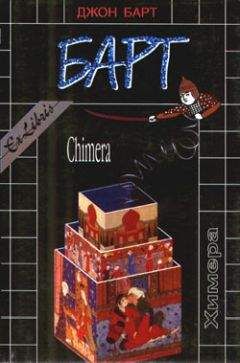Художественный реализм оказывается тогда произвольным набором общепринятых условностей, который на неком определенном уровне определенной культуры в определенный период ощущается людьми как буквальное подражание их представлению о действительном мире. Само собой разумеется, что реализм одного поколения или одной культуры оказывается для другой откровенно измышленной выдумкой – свидетельством чему служит, например, история того, что произошло с реалистическим диалогом и характеризацией в голливудских фильмах от Хамфри Богарта до Роберто де Ниро. Точно так же само собой разумеется, что реалистически убедительное для неискушенного может не оказаться таковым для искушенного – и наоборот: птицы клюют нарисованные Апеллесом гроздья винограда (чуть ли не единственный факт, который мы знаем о живописи классической Греции); наивный колонист-пионер вскакивает в девятнадцатом веке со своего места в плавучем театре, чтобы предостеречь героиню мелодрамы от льстивых речей злодея. С другой стороны, зебрам в зоопарке нет никакого дела до цветной в полный рост фотографии зебры – они не знают, что на ней изображено,– а по рассказам колумбийского романиста Габриэля Гарсия Маркеса, то, что мы, гринго, принимаем в его произведениях за сюрреализм, там, откуда он пришел, является повседневной реальностью.
Что же касается художественного ирреализма – своего рода фантазии, к которой обращаются международные конференции по фантастике, – он должен состоять из произвольного набора художественных принципов и приемов, как общепринятых, так и любых других, который на неком определенном уровне определенной культуры в определенное время ощущается людьми как нечто приятное и/или значительное, хотя они и понимают, что это отнюдь не буквальное подражание их представлению о действительном мире. Рассмотрим призрак отца Гамлета. Для большинства из нас, как и для многих елизаветинцев, этот призрак в шекспировской пьесе является (являлся) приемом фантастической литературы. Для многих других елизаветинцев, как и для кое-кого из нас – тех, кто верит в привидения, – он являлся (является) приемом реалистической литературы. Нам не известно, как обстояло дело с самим драматургом или конкретными исполнителями этой роли. Для Гамлета как персонажа призрак вообще не является приемом какого бы то ни было толка; это реальность, как вполне могло быть и для какого-нибудь наивного простолюдина, напуганного до потери пульса в креслах театра "Глобус". Мать Гамлета Гертруда называет призрак фантазией Гамлета ("…лишь созданье твоего же мозга": III, 4), даже его психопатологической фантазией ("Горе, он безумен!": III, 4): она не видит и не слышит призрака, когда Гамлет в ее присутствии его видит и слышит. Но ситуация осложняется тем, что не только стражники, но и не верящий в сверхъестественное университетский студент Горацио видят то, что видит Гамлет, но, по-видимому, не слышат того, что слышит он (все это после того, как стражник Марцелл пожаловался: "Горацио считает это нашей фантазией": I, 1) – и т. д., и т. п. Мы находимся в парадоксальном мире реалистических, как у Кафки, фантазий и фантастических, как в принадлежащей Эдгару По версии последнего рассказа Шахразады (того, который царь Шахрияр отказался проглотить, поскольку ему пришлось иметь в нем дело с пароходами, железными дорогами и прочими противоречащими здравому смыслу нелепицами), реальностей. Добавлю, что я сам нахожу фантастический прием с призраком отца Гамлета куда более правдоподобным, нежели реалистический прием случайного обмена рапирами в разгар дуэли Гамлета с Лаэртом в пятом акте. Так все устроено – и пора вернуться к нашей теме.
Я отметил, что приемы художественной фантазии могут быть или не быть общепринятыми. По мнению Хорхе Луиса Борхеса, самыми распространенными приемами фантастической литературы являются следующие четыре: двойник, путешествие во времени, проникновение в реальность ирреальности и, наконец, текст в тексте.
С этим последним, моей темой, все мы знакомы по таким классическим образцам, как "Тысяча и одна ночь", в которой Шахразада развлекает царя Шахрияра историями, персонажи которых время от времени рассказывают друг другу истории, персонажи которых (в нескольких случаях) рассказывают истории, и дальше. Более пристальное изучение показывает, что настоящей "рамкой" "Тысячи и одной ночи" являются не взаимоотношения между Шахразадой и Шахрияром, а нечто более "удаленное" и древнее: отношение между читателем (или слушателем) и неназванным рассказчиком истории Шахразады. Я имею в виду буквально следующее: первые слова повествования (после воззвания к Аллаху) суть: "И есть книга, называемая "Тысяча и одна ночь", в которой сказано, что однажды…" и т. д. Другими словами, "Тысяча и одна ночь" повествует не непосредственно о Шахразаде и ее историях, а о книге, названной "Тысяча и одна ночь", которая повествует уже о Шахразаде и ее историях. Это не та книга, которую мы держим в руках снабженной замечательными примечаниями Ричарда Бертона; это не совсем и та книга, которую приказывает на 1002-е утро записать Шахрияр. Не знаю, какова в точности эта книга или где она. Я попросил своего друга Уильяма Гэсса – как профессионального философа, так и профессионального рассказчика – оказать мне любезность и установить место ее нахождения; он точно так же не уверен, где же она. Длительные размышления об этой книге вызывают головокружение.
Как радикальный прием обрамления может быть рассмотрено и классическое обращение к музе в греческой и римской эпической литературе. "Внешняя", или основная, история "Одиссеи", можно сказать, – это не положение стремящегося домой из Трои Одиссея, а положение певца, который в первых же строках поет: "Муза, воспой же того многоопытна мужа" и т. д.; "начни где захочешь". На что Муза на самом деле отвечает: "Раз ты просишь, история такова: Все уж другие, погибели верной избегшие, были дома" и т. д. Мой опыт и интуиция – и как профессионального рассказчика, и как любителя обрамленной литературы – наводит меня на подозрение, что если первая когда-либо рассказанная история начиналась со слов "Однажды случилось так, что…", то вторая когда-либо рассказанная история начиналась со слов: "Однажды случилось так, что одна история начиналась со слов: "Однажды случилось так, что…". Более того – поскольку рассказывание историй представляется столь же свойственным человеку явлением, как и сам язык, – я готов побиться об заклад, что вторая история ничуть не менее повествует о "жизни", нежели первая.
Но позвольте же мне рассказать вам историю моего любовного приключения с этим вторым типом историй: с рассказами в рассказах. Вы уже слышали ее начало: однажды случилось так, что тот студент развозил тележки с книгами среди стеллажей классической библиотеки Джонса Хопкинса и тайком читал ту фантастическую литературу, которую ему полагалось учитывать: "Тысяча и одну ночь", "Океан сказаний", "Панчатантру", "Метаморфозы", "Декамерон", "Пентамерон", "Гептамерон" и все остальное. Прошло немало лет, и этот студент обнаружил, что превратился и в рассказчика историй, и в их читателя, а в придачу – в профессора Университета штата Нью-Йорк в Баффало, одной из привилегий которого (пора была цветущая, середина 60-х) являлось наличие ассистента по исследовательской работе из числа выпускников. Как помог бы он мне ранее, в Пенн-стейт, когда я писал "Торговца дурманом"! Как помог бы он мне позднее, в Джонсе Хопкинсе, когда я писал роман "ПИСМЕНА"! Но так уж получилось – то, что я писал тогда, никаких особых изысканий не требовало.
По правде говоря, я решил поэтому довершить мое старое увлечение обрамленной литературой в меру основательным, если и не профессиональным, изучением этого жанра, которому на самом деле, казалось, было посвящено не слишком много исследований общего плана – помимо нескольких полезных компендиумов на немецком языке и взглядов искоса со стороны чосерианцев. Я не собирался ни публиковать на эту тему эссе, ни читать посвященный ей курс: просто поставить определенные вопросы о существующем корпусе этой литературы, дабы удовлетворить давнишнее любопытство и, возможно, открыть касательно этой старинной повествовательной условности что-нибудь такое, что могло бы стать импульсом для моей собственной истории: истории, которая, о чем бы она к тому же ни рассказывала, была бы также и об историях в историях в историях.
Я опять на секунду отвлекусь здесь, чтобы заметить: для Муз, кажется, не играет особой роли, призывает ли их писатель, как то делает Александр Солженицын, руководствуясь героическим желанием разоблачить и уничтожить деспотическую государственную систему, или, как у Флобера, из декадентского желания написать роман "ни о чем", – их решение петь или не петь основывается, похоже, на совсем других соображениях. Музы составляют куда менее ответственный – в сфере морали – комитет, нежели Шведская Академия.