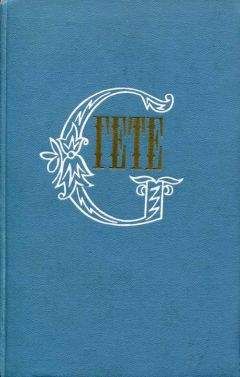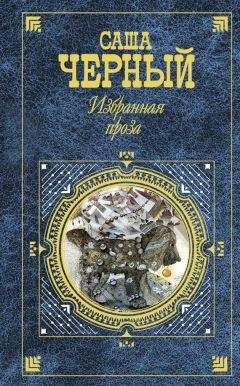В царство сосен, озер и камней.
На площадке вагона два раза видал,
Как студент свою даму лобзал.
Эта старая сцена сказала мне вмиг
Больше ста современнейших книг.
А в вагоне — соседка и мой vis-а-vis
Объяснялись тихонько в любви.
Чтоб свое одинокое сердце отвлечь,
Из портпледа я вытащил «Речь».
Вверх ногами я эту газету держал:
Там в углу юнкер барышню жал!
Был на Иматре. — Так надо.
Видел глупый водопад.
Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.
Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»
Извините. Очень надо…
Я приехал отдохнуть.
А за мной из водопада
Донеслось: «Когда-нибудь!»
Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу.
Купил финский нож — и вчера потерял.
Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу
Того, кто мое легковерие грубо украл.
Я в городе жаждал лесов, озер и покоя.
Но в лесах снега глубоки, а галоши мелки.
В отеле все те же комнаты, слуги, жаркое,
И в окнах финского неба слепые белки.
Конечно, прекрасно молчание финнов и финок,
И сосен, и финских лошадок, и неба, и скал,
Но в городе я намолчался по горло, как инок,
И здесь я бури и вольного ветра искал…
Над нетронутым компотом
Я грущу за табльдотом:
Все разъехались давно.
Что мне делать — я не знаю.
Сплю, читаю, ем, гуляю —
Здесь — иль город: все равно.
1909
Поэма
Нос твой — башня ливанская,
Обращенная к Дамаску.
Песнь песн. Гл. VII
Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.
У ног его, как воплощенный миф,
Лежала Суламифь
И, высунувши розовенький кончик
Единственного в мире язычка,
Как кошечка при виде молочка,
Шептала: «Соломон мой, Соломончик!»
«Ну, что?» промолвил царь,
Обгладывая лапку.
«Опять раскрыть мой ларь?
Купить шелков на тряпки?
Кровать из янтаря?
Запястье из топазов?
Скорей проси царя,
Проси, цыпленок, сразу!»
Суламифь царя перебивает:
«О мой царь! Года пройдут, как сон —
Но тебя никто не забывает —
Ты мудрец, великий Соломон.
Ну, а я, шалунья Суламита,
С лучезарной, смуглой красотой,
Этим миром буду позабыта,
Как котенок в хижине пустой!
О мой царь! Прошу тебя сердечно:
Прикажи, чтоб медник твой Хирам
Вылил статую мою из меди вечной, —
Красоте моей нетленный храм!..»
«Хорошо! — говорит Соломон. — Отчего же?»
А ревнивые мысли поют на мотив:
У Хирама уж слишком красивая рожа —
Попозировать хочет моя Суламифь.
Но ведь я, Соломон, мудрецом называюсь,
И Хирама из Тира мне звать не резон…
«Хорошо, Суламифь, хорошо, постараюсь!
Подарит тебе статую царь Соломон… »
Царь тихонько от шалуньи
Шлет к Хираму в Тир гонца,
И в седьмое новолунье
У парадного крыльца
Соломонова дворца
Появился караван
Из тринадцати верблюдов,
И на них литое чудо —
Отвратительней верблюда
Медный, в шесть локтей, болван.
Стража, чернь и служки храма
Наседают на Хирама:
«Идол? Чей? Кому? Зачем?»
Но Хирам бесстрастно нем.
Вдруг выходит Соломон.
Смотрит: «Что это за гриф
С безобразно длинным носом?!»
Не смущаясь сим вопросом,
Медник молвит: «Суламифь».
«Ах!» Сорвалось с нежных уст,
И живая Суламита
На плиту из малахита
Опускается без чувств…
Царь, взбесясь, уже мечом
Замахнулся на Хирама,
Но Хирам повел плечом:
«Соломон, побойся срама!
Не спьяна и не во сне
Лил я медь, о царь сердитый,
Вот пергамент твой ко мне
С описаньем Суламифь:
Нос ее — башня Ливана!
Ланиты ее — половинки граната.
Рот, как земля Ханаана,
И брови, как два корабельных каната.
Сосцы ее — юные серны,
И груди, как две виноградные кисти,
Глаза — золотые цистерны,
Ресницы, как вечнозеленые листья.
Чрево, как ворох пшеницы,
Обрамленный гирляндою лилий,
Бедра, как две кобылицы,
Кобылицы в кремовом мыле…
Кудри, как козы стадами,
Зубы, как бритые овцы с приплодом,
Шея, как столп со щитами,
И пупок, как арбуз, помазанный медом!»
В свите хохот заглушенный. Улыбается Хирам.
Соломон, совсем смущенный, говорит: «Пошел к чертям!
Все, что следует по счету, ты получишь за работу…
Ты — лудильщик, а не медник, ты сапожник… Стыд и срам!»
С бородою по колена, из толпы — пророк Абрам
Выступает вдохновенно: «Ты виновен — не Хирам!
Но не стоит волноваться, всякий может увлекаться:
Ты писал и расскакался, как козуля по горам.
“Песня песней” — это чудо! И бессилен здесь Хирам.
Что он делал? Вылил блюдо в дни, когда ты строил храм…
Но клянусь! В двадцатом веке по рождении Мессии
Молодые человеки возродят твой стиль в России… »
Суламифь открывает глаза,
Соломон наклонился над нею:
«Не волнуйся, моя бирюза!
Я послал уж гонца к Амонею.
Он хоть стар, но прилежен, как вол,
Говорят, замечательный медник…
А Хирам твой — бездарный осел
И при этом еще привередник!
Будет статуя здесь — не проси —
Через два или три новолунья… »
И в ответ прошептала «Merci!»
Суламифь, молодая шалунья.
1910
Зашевелились корни
Деревьев и кустов.
Растаял снег на дерне
И около крестов.
Оттаявшие кости
Брыкаются со сна,
И бродит на погосте
Весенняя луна.
Вон вылезли скелеты
Из тесных, скользких ям.
Белеют туалеты
Мужчин и рядом дам.
Мужчины жмут им ручки,
Уводят в лунный сад
И все земные штучки
При этом говорят.
Шуршание. Вздохи. Шепот.
Бряцание костей.
И слышен скорбный ропот
Из глубины аллей.
«Мадам! Плохое дело…
Осмелюсь вам открыть:
Увы, истлело тело —
И нечем мне любить!»
1910
Зеленой плесенью покрыты кровли башен,
Зубцы стены змеятся вкруг Кремля.
Закат пунцовой бронзою окрашен.
Над куполами, золотом пыля,
Садится солнце сдержанно и сонно,
И древних туч узор заткал полнебосклона.
Царь-колокол зевает старой раной,
Царь-пушка зев уперла в небеса,
Как арбузы, — охвачены нирваной,
Спят ядра грузные, не веря в чудеса —
Им никогда не влезть в жерло родное
И не рыгнуть в огне, свистя и воя…
У красного крыльца, в цветных полукафтаньях,
Верзилы певчие ждут, полы подобрав.
В лиловом сумраке свивая очертанья,
Старинным золотом горит плеяда глав,
А дальше терема, расписанные ярко,
И каменных ворот зияющая арка.
Проезжий в котелке, играя модной палкой,
В наполеоновские пушки постучал,
Вздохнул, зевнул и, улыбаясь жалко,
Поправил галстук, хмыкнул, помычал —
И подошел к стене: все главы, главы, главы
В последнем золоте закатно–красной лавы…
Широкий перезвон басов–колоколов
Унизан бойкою, серебряною дробью.
Ряды опричников, монахов и стрельцов
Бесшумно выросли и, хмурясь исподлобья,
Проходит Грозный в черном клобуке,