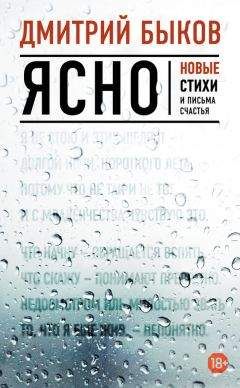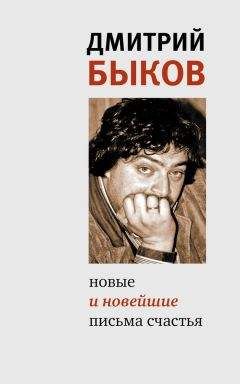И знаком слияния двух половинок, гордящихся новым народом своим, – застынет безлюдный Черкизовский рынок, пустынный и круглый, что твой Аркаим.
Все это скоро кончится: зима, рассветы в полдень, скользота, сугробы, и вечная, сводящая с ума, родная смесь бессилия и злобы, и недосып, и утренняя дрожь, и грязный транспорт – с давкой без единства, – и пакостная мысль, что хошь не хошь, а вытерпишь, поскольку здесь родился. Об этом, брат, написаны тома: в других краях меняется погода, а здесь полгода – русская зима, и страх перед зимой – еще полгода. Оглядываться в вечном мандраже, трястись перед пространством заоконным… Но, кажется, повеяло уже каким-то послабленьем беззаконным.
В причины углубляться не решусь, но ясно, в чем на улицу ни выйди, что у зимы закончился ресурс поддерживать себя в суровом виде. Она опустошила закрома. Уже медведю капает в берлогу… Подчеркиваю: это все зима и никакой политики, ей-Богу!
Почуялся какой-то перелом. Попутчики взглянули друг на друга, как будто их сейчас задел крылом беспечный ангел, следующий с юга. На миг забылась уличная стынь, и голый парк, и ледяная крупка, – повеяло естественным, простым, и стало ясно, как все это хрупко: и страх, и снег, и толстые пальто, и снежные, и каменные бабы… Циклическая жизнь имеет то простое преимущество хотя бы (тому порукой круглая земля, коловращеньем схожая с Россией), что где-то начиная с февраля все делается чуть переносимей. На всем пространстве средней полосы пройдет смягченье воздуха и быта: не будет страха высунуть носы на улицу, что снегом перекрыта; коварство чуть присыпанного льда прохожему внушить уже не сможет, что это жизнь, что будет так всегда, что век наш скудный так и будет дожит, и что любой, кто колет этот лед, пространство отвоевывая с бою, – проплаченный, ничтожный идиот, рискующий другими и собою. Удастся всеми легкими вздохнуть, от свитера освободивши тело… Нет, я не о политике, отнюдь. Политика давно мне надоела. Что проку – добавлять еще мазок в картину обоюдного позора? Могу я о природе хоть разок? Тем более, что скоро, скоро, скоро…
Конечно, как весну ни приукрась, она грозна и несводима к негам. Я знаю сам, что это будет грязь. Что все дерьмо, которое под снегом, запахнет так, что мама не горюй; что птичий гвалт не услаждает слуха; что кроме первых трав и вешних струй, на свете есть и слякоть, и разруха; что чуть поддастся снег, а хрусткий наст покроется незримой сетью трещин – как первая же оттепель предаст высокий строй, который ей завещан. Я слыхивал весенний первый гром. Я знаю – всем отплатится по вере: ведь зло не побеждается добром, а худшим злом (у нас по крайней мере). Но эта влажность! Эта череда словес о сладкой вольности гражданства! Кто раз вдохнул апреля, господа, тот все-таки уже не зря рождался. Мне тоже ведом этот дух свиной, навозный дух весенней черной жижи – но все-таки! Но хоть такой ценой! И это время ближе, ближе, ближе…
Я менее всего хочу прослыть фельетонистом, тянущим резину, и как мне вам, упрямым, объяснить, что это не про власти, а про зиму? Идите строем в красную звезду – борцы, сатрапы, русские, евреи…
А то, что вы имеете в виду, закончится значительно скорее.
Август 2009. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Помнишь песню о празднике общей беды? В прошлой жизни ее сочинил «Наутилус». Утекло уже много не только воды; это чувство ушло, а точней, превратилось. Эту песню, как видишь, давно не поют, – устарелость ее объясняется вот чем: нас когда-то роднил тухловатый уют в заповеднике отчем, тогда еще общем. Мы стояли тогда на таком рубеже, что из нового времени видится еле: наши праздники разными были уже, мы по-разному пели, по-разному ели, нам несходно платили за наши труды – кто стоял у кормила, а кто у горнила, – но тогда состояние общей беды нас не то чтобы грело, а как-то роднило. Загнивал урожай, понижался удой, на орбите случалась поломка-починка – это все еще виделось общей бедой, а не чьей-то виной и не подвигом чьим-то. Было видно, что Родина движется в ад, и над нами уже потешалась планета; в каждом случае кто-нибудь был виноват, но тогда еще главным казалось не это. Над Советским Союзом пропел козодой, проржавевшие скрепы остались в утиле – стал Чернобыль последнею общей бедой, остальные уже никого не сплотили.
Двадцать лет, как в Отечестве длится регресс – череда перекупок, убийств и аварий. Все они – от Беслана до Шушенской ГЭС – повторяют сегодня единый сценарий. И боюсь, что случись окончательный крах – и тандему, и фонду, и нефти, и газу, – перед тем, как гуртом обратиться во прах, мы сыграем его по последнему разу. По Отчизне поскачут четыре коня, но устраивать панику мы не позволим, и Шойгу, неразумную прессу кляня, многократно напомнит, что все под контролем. Госканалы включатся, синхронно крича, что на горе врагам укрепляется Раша; кой-кого кое-где пожрала саранча, но обычная, прежняя, штатная, наша. Тут же в блогах потребуют вывести в топ («Разнесите, скопируйте, ярко раскрасьте!»), что Самару снесло и Челябинск утоп, но людей не спасают преступные власти. Анонимный священник воскликнет «Молись!» и отходную грянуть скомандует певчим; анонимный появится специалист, говоря, что утопнуть Челябинску не в чем… Журналисты, радетели правозащит, проберутся на «Эхо», твердя оголтело, что в руинах Анадыря кто-то стучит. Против них возбудят уголовное дело. Не заметив дошедшей до горла воды и по клаве лупя в эпицентре распада, половина вскричит, что виновны жиды. Эмигранты добавят, что так нам и надо. Населенье успеет подробно проклясть телевизор, «Дом-2», социалку и НАТО, и грузин, и соседей, и гнусную власть (кто бы спорил, все это и впрямь виновато). Будет долго родное гореть шапито, неказистые всходы дурного посева. Пожалеть ни о ком не успеет никто. Большинство поприветствует гибель соседа. Ни помочь, ни с тоской оглянуться назад, – лишь проклятьями полниться будет френд-лента; ни поплакать, ни доброго слова сказать, ни хотя бы почуять величья момента; ни другого простить, ни себя осудить, ни друзьям подмигнуть среди общего ора… Напоследок успеют еще посадить догадавшихся: «Братцы, ведь это Гоморра!». Замолчит пулемет, огнемет, водомет, оппоненты улягутся в иле упругом, и Господь, поглядевши на это, поймет, что флешмоб, если вдуматься, был по заслугам. Но когда уже ляжет безмолвья печать на всеобщее равное тайное ложе, – под Москвой еще кто-то продолжит стучать, ибо эта привычка бессмертна, похоже. Кто-то будет яриться под толщей воды, доносить на врага, проклинать инородца…
Ибо там, где не чувствуют общей беды, – никому не простят и никто не спасется.
Август 2009. Десятилетие правления Владимира Путина
Я невесел с утра по какой-то причине – назовем ее левой ногой. И пока все кричат об одной годовщине, я хочу говорить о другой. Я и рад бы чего сочинить веселее, а не в духе элегий Массне, но хочу говорить о другом юбилее – «Десять лет пребыванья во сне».
После долгих интриг, катаклизмов подземных и скандалов у всех на виду – в августовские дни утвердился преемник в девяносто девятом году. Он кого-то пугал, он тревожил кого-то, а иных осчастливил сполна… Только мною на миг овладела зевота: я решил, что от нервов она. И покуда чеченцам грозил его палец под корректное «браво» Семьи, – почему-то глаза мои плотно слипались, и боюсь, что не только мои. И покуда мы дружно во сне увязали – ни на миг не бросая труда, он все время мелькал пред моими глазами: то туда полетит, то сюда… Всем гипнологам практики эти знакомы, хоть для свежего взгляда странны. Это было подобье лекарственной комы для больной, истомленной страны, – ей казалось, ее состоянье такое, что лечение пытке сродни, что она заслужила немного покоя и долечится в лучшие дни. И заснула, как голубь средь вони и гула, убирая башку под крыло… Помню, что-то горело, а что-то тонуло, – но я спал, я спала, я спало. В этом сне перепуталось лево и право, ложь и истина, благо и зло, – а когда началась нефтяная халява, так меня и совсем развезло.
Что мне снилось? Что здесь завелись хунвейбины (не за совесть, а так, за бабло); что кого-то сажали, кого-то убили, но почти никого не скребло; тухловатый уют в сырьевой сверхдержаве расползался, халява росла, много врали, я помню, и сами же ржали – но ведь это нормально для сна! И начальник – как Оле-Лукойе из сказки, но с сапожным ножом под полой, – создавал ощущение твердой повязки на трофической ране гнилой, и от знойного Дона до устья Амура все гнила она в эти года – под слоями бетона, под слоем гламура, под коростою грязи и льда, и пока нам мерещились слава и сила, вширь и вглубь расползалось гнилье, и я чувствовал это, но все это было, как обычно во сне, не мое. Позабылись давнишние споры и плачи – вспоминались они, как кино. Я не верил уже, что бывает иначе. Если так, то не все ли равно? Я не верил уже, что на этом пространстве, где застыла природа сама, – задавали вопросы, не боялись острастки, сочиняли, сходили с ума; все наследники белых и красных империй в густо-серый окрасились цвет; я не верил уже, что бывает критерий, и привык, что критерия нет. Так мы спали, забыв о ненужных химерах, обрастая приставками «лже»… Между тем он работал, как раб на галерах – или нам это снилось уже?