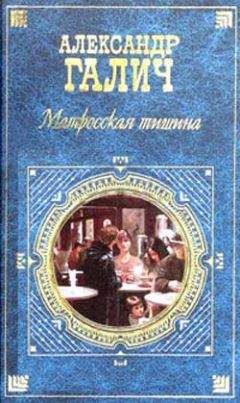чему вы будете относить, это уже не то что от лукавого, а не существенное для определения того, что он делал. То, что он делал, он делал очень хорошо, и очень важно и нужно было, очень точно и настоящее все искусство. Я не знаю, как вот называть настоящее искусство. Наверное, поэзия все-таки.
* * *
Дело в том, что Галич за границей — это особая статья. Особая статья была в том, что он был такой, как здесь. А все-таки ситуация там была другая. Но ему повезло, его почему-то эти люди заграничные признавали. Это так. Но выразить это они не могли иначе, как дать ему административную должность на «Свободе»! Они могли дать какого-то обозревателя, и он бы получал столько же денег, и было бы все нормально. Но он получил административные функции, на что, на мой взгляд, у него способностей еще меньше, чем у меня. А у меня они близки к нулю. Но там же народ есть активный, и все там чего-то от него требовали. Его же еще по Москве знали. Особенно наши, которые недавно приехали, они больше понимали, но старые эмигранты — они вообще терялись. Ну, как договариваешься с человеком, а он сикось-накось. Ну, там у него романические дела, мирские, так сказать, были там несколько неэмигрантские все-таки, я понимаю, когда в Москве, а там это был перебор. Причем самое смешное, что муж одной женщины (я его плохо знаю), он ходил куда-то по советской привычке жаловаться в инстанции. Американцы совершенно охреневали от этого.
В Париже я Сашу практически не видел. Я видел его в Мюнхене, они только как раз переехали. Но Саша, он ведь не то что борец и защитник, чего у него нет, того и не было. Выступать он выступал. Говорить он говорил вещи вполне осмысленные, вполне нормальные, талантливо. В Саше был комплекс артиста, это было. Хотя он вроде стал творцом, но все равно в нем комплекс артиста. В Израиль уехал — так создал сразу целый цикл произведений, посвященный судьбе евреев, в общем, сионистских каких-то стихов, которые все, по-моему, плохие, и самое лучшее из них — это четверостишие, по-моему, действительно талантливое.
В каналах вода зелена
нестерпимо,
И ветер с лагуны
пронзительно
сер.
— Вы, братцы, из Рима?
— Из Рима, вестимо.
— А я из-под Орши, —
сказал гондольер.
Меня очень поразило — один раз показывали советскую агитку про радио «Свобода» — фальшивку. И там про Сашу было, что вот он должен был поехать в Израиль к тете, а он поехал к дяде, к другому дяде, его там обрабатывали, и оставил ребенка тут, ну, как наши это умеют делать, но все к этому относились так, юмористически. Но почему-то вдруг его это сильно расстроило. Я страшно поразился, почему вдруг, ну кто на это обращает внимание? Тем более если это грозит последствиями, а там это ничем не грозило. Потом понял, что из-за ребенка, наверное.
В русской среде за границей Галич был очень известен, потому что издание его книг купилось «Посевом». То есть он получил гонорар и принес «Посеву» прибыль.
Он всегда говорил на всех языках — во всяком случае, по-немецки, по-французски и по-английски говорил совершенно свободно. Саша был хороший человек; хороший, добрый, доброжелательный, но актер он был тоже, это ничего не поделаешь. Актерские привычки в нем сидели, несмотря на то что у меня есть теория другая, не про Сашу, что в наше время вообще вместо поэтов работают актеры, но это к нему не относится. Он работал как поэт, а не как актер.
Конечно, Саша был весь человек тутошний, как и, в общем, я, и все такое, но он даже в большей степени, потому что у него дар более драматургический, что ли. Хотя все его народные слова он придумывал сам большей частью. Придумывал — это не то слово, они принадлежали ему, но они были такими, что казалось, что это он услышал. А на самом деле он их не слышал, большей частью он не слышал, он их нашел. Их не говорят, но могли бы сказать. Но это здесь, это все время было на слуху, Саша все время чувствовал жизнь. Чувствовал всякую, не только интеллигентскую. Нет. Он очень вообще крупный художник. Это другое дело, я не очень люблю патетические вещи, нет, хотя вот в «Кадише» замечательные куски, но вещи такие вот бытовые, о жизни — просто это очень хорошо. Я часто себя ловлю, что ходят какие-то формулы его и слова его, это очень часто. Он очень серьезный художник. Все несерьезности относятся к бытовому характеру, а не к тому, что он писал.
«Ладно уж, прокормим окаянного», — вот это ведь и смешно, и не смешно, и страшно, и трогательно. А это «И в киоске я купил соль и перец»… Ведь это же очень здорово. «Мне теперь одна дорога», это же нельзя не понимать!
На фотографии это в Риме, 1977 год. Мы же там встретились, а потом я куда-то поехал еще. А потом я приехал в Париж, и мы должны были встретиться, мы раньше договаривались встретиться, все. Вот. Хрен. Когда идешь к человеку, а он погиб. Я оказался в центре события, сбоку, но все-таки в центре.
Виктор Некрасов [25]
ПЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ГАЛИЧА
Последний раз, когда я видел Сашу Галича, он лежал на полу, большой, грузный, с раскинутыми руками, а над ним, то ли на полке, то ли на каком-то стенде, его убийца — сверхсовершенный радиоприемник, о котором Саша мечтал всю жизнь. Потом появились полицейские. Они с трудом подняли его и, перекинувшись несколькими фразами полушепотом, унесли. Перед уходом сняли с его груди крестик и отдали мне. А через несколько дней мы его хоронили на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа.
Незадолго до этого нашего печального расставания были мы вместе в дождливой осенней Венеции на знаменитом «биеннале» [26], столь разгневавшем тогда Москву. Советский Союз демонстративно отказался участвовать в нем, поскольку советским людям дышать одним воздухом, пусть даже венецианским, с отщепенцами-клеветниками не пристало.
Саша выступал тогда