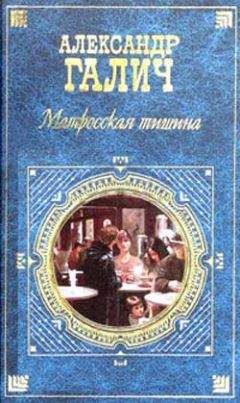Алена Галич вспоминает об отце
Малая церковка, свечи оплывшие,
камень дождями размыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие.
Кладбище Сен-Женевьев де Буа.
Участок № 5,4. Александр Галич
— Алена Александровна, расскажите о своих первых воспоминаниях об отце.
— Мои самые первые воспоминания связаны с жизнью на Бронной, когда я, маленькая, с больным перевязанным горлом, открываю глаза и вижу склоненную голову отца, сидящего за рабочим столом. Сейчас часто пытаются представить Галича этаким богемным, пьющим, влюбляющимся. Может, он был в какой-то степени увлекающимся человеком, но мне он запомнился в основном работающим. Вот мы гуляем с ним по Тверскому бульвару, и вдруг он неожиданно садится на скамейку, достает блокнот (всегда находящийся в кармане), начинает что-то писать, совершенно забывая про меня. Однажды мама застала такую сцену: я сижу в луже, папа — на скамейке, что-то записывает в очередной блокнот. Мы с ним оба довольны, а мама в ужасе. Когда он работал, то забывал обо всем на свете.
Мои родители довольно рано разошлись. Когда я училась в 10-м классе, моим нелюбимым предметом была математика, я не знала ее и считала, что знать не надо, потому что собиралась поступать в ГИТИС. В те дни, когда были уроки математики, я прогуливала занятия в школе. Папа знал об этом и, когда мама уходила на работу, звонил мне и спрашивал: «Ну, ты как?» Я отвечала: «Мимо». Это был такой пароль, означающий: «гуляем», расшифровка простая — встречаемся у кинотеатра — «Повторного фильма». Отец любил ходить со мной на утренние сеансы.
Он руководил моим чтением. Однажды я нашла книжки Чарской, и папа сказал: «Ты читай, но никому не говори, ведь ты понимаешь, ты взрослый человек». Взрослому человеку было всего пять лет. Отец, как все большие люди, был сентиментален, ему нравились Диккенс, Чарская. Он считал правильным, что в ребенке воспитывается доброта, сочувствие к ближнему. У нас тогда была волна выступлений в защиту негров, а он считал, что маленький ребенок должен знать, когда надо защитить такого же ребенка. Еще он любил ходить по комиссионкам и покупать подарки, хотя денег у него было немного. Бабушка считала это дурным вкусом.
Я часто болела, у меня были увеличенные гланды, и он подарил мне теплую пижаму, синюю, с голубыми отворотами — главное, он сам получил от этого огромное удовольствие. И еще он очень любил цветы, но не розы: не любил пышность, любил простые полевые цветы. У него на столе всегда стояли персидские гвоздики вишневого цвета. И если даже шел ко мне, прогуливавшей школу, то обязательно нес цветы.
А еще была история, когда мы вместе сбежали: я — от мамы (в это время я должна была с репетитором заниматься математикой), папа — от Ангелины Николаевны, его второй жены. В Москве гастролировал английский театр, у отца были билеты, он пригласил меня на спектакль. Днем мы пообедали в Доме журналистов, а вечером отправились в театр: мама искала меня, была в ярости, кто-то ей сказал про театр. А Ангелина Николаевна ворвалась в зал и сказала, что она так и знала. И тем не менее мы с отцом были очень счастливы. Подобные истории случались часто.
— Скажите, Алена Александровна, ваш отец отбывал срок в лагере? Я спрашиваю об этом потому, что он пел «лагерные» песни, такие, как «Товарищ Сталин, вы большой ученый…».
— Нет, отец не сидел, а сидел мой дедушка. Его посадили в 1947 году, была соответствующая волна (видимо, А. А. имела в виду борьбу против космополитов. — И. Т.). Папа получил деньги за книгу «Вас вызывает Таймыр», бабушка продала рояль, отец дал кому-то взятку, и деда выпустили.
Отец не сидел, но говорил, что настоящий художник чувствует чужую боль еще больше, чем свою.
Он был удачливым человеком, у меня на пленке есть запись, где он говорит: «Я был благополучным сценаристом, я был благополучным советским холуем. Но я понял, что так больше жить не могу, я должен сказать правду в полный голос».
— И когда он начал говорить правду и как?
— После XX съезда КПСС позволили сделать глоток свежего воздуха. Отец выбрал для себя форму городского романса. Он начал писать песни, исполнять их, они были у всех на слуху. Люди распевали и «Облака», и «Раскрутили шарик наоборот», и «Уходят друзья»… Отец считал, что только так он может высказаться откровенно.
— Скажите, Алена Александровна, кто был гонителем Галича и каким был «первый звонок» из высоких инстанций?
— Первый «полузвонок» был в 1968 году, после Новосибирского фестиваля, когда в Союзе писателей разбирался вопрос по поводу отца, Окуджавы и других бардов. Разбиралась авторская песня, обсуждался вопрос о писателях, подписавших письмо в защиту Галанскова и Гинзбурга. Писателям было рекомендовано не подписывать больше никаких писем, а бардам — не исполнять таких песен, как Галич в Новосибирске. Я должна сказать, что все так и сделали, а отец продолжал писать и исполнять свои песни.
До сентября 1971 года гонений со стороны официальных властей на отца не было — запускался фильм «Шаляпин» по сценарию Галича, в издательстве «Искусство» готовилась к изданию книга отца. Но когда член политбюро Полянский на свадьбе дочери прослушал песни Галича, началось повальное запрещение его выступлений, был положен на полку фильм «Шаляпин». Тогда отец отнесся ко всему этому с большим удивлением. Он был эмоциональным человеком и говорил, что его спасало собственное легкомыслие. Странно, что его многие изображают мизантропом. Были, конечно, тяжелые периоды в его жизни — недаром в 1973 году он принял крещение, но в целом его внутренний настрой оставался светлым.
— Скажите, есть ли люди, которые в свое время отвернулись от Галича, а теперь записываются в его друзья?
— «Помолчи — попадешь в богачи» — были такие. Были и предатели. Настоящих друзей у отца было немного. Это Аграновские, Нагибин, Рассадин. Один очень известный артист, хорошо знавший моего отца с юношеских лет, сказал как-то, что он не считал Сашу талантливым человеком — дескать, он разбрасывался и песни свои писал не потому, что чувствовал боль и необходимость высказаться, а просто любил красоваться и выступать перед академиками, но при этом на самом деле всего боялся, был очень трусливым человеком. И вдруг я вижу и слышу, как в прошлом году он выступает по радио и по телевидению с воспоминаниями о Галиче в совершенно другом духе.
— Кстати,