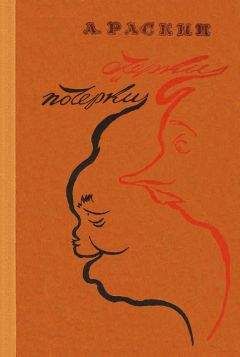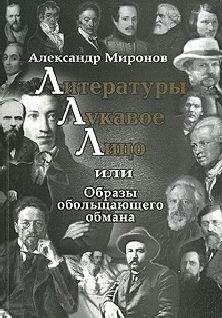Сутки первые. Освещается просцениум. На ящике с «эскимо» обнявшись сидят Любков и Зина. Оркестр тихо играет что-то такое.
Зина (после паузы). Только ты не думай, что я со всяким покупателем так сяду.
Любков. А я и не думаю.
Зина. Просто каждой женщине в такую погоду хочется, чтобы на сердце тепло было. Ну, вот и… А вообще-то я — член профсоюза. И у меня нагрузка — касса взаимопомощи.
Любков. Оно и видно.
Зина. Злой ты, Сева.
Любков. Ну что ты, Зиночка… (Гладит ее по голове, целует в щеку, ударом локтя в грудь сшибает Зину с ящика и медленно уходит.)
Зина (лежа на снегу). Ну и черт с тобой! Кому «эскимо», пломбир, сливочный, фруктовый! (Плачет.)
Сутки вторые. Почти тот же вечер. Продолжает идти снег. Прохожие вспоминают, что когда-то они были дошкольниками. Любков идет через сцену, осматривается.
Любков. Сорок лет, всего каких-то сорок лет. Вот в этом доме был наш детский сад. Мне было пять, ей — тоже пять. Как ее звали? Муся? Дуся? Боже мой, как я любил ее! Как она любила меня! Наши стульчики всегда стояли рядом. И эта песенка… (Тихо, проникновенно поет.)
Как на Тусины именины
Испекли мы каравай,
Вот такой вышины!
(Показывает.)
Вот такой ширины!
(Показывает.)
Через сцену медленно идет Туся. Она недоверчиво вглядывается в Любкова.
Любков (поет).
Каравай, каравай,
Кого любишь, выбирай!
Туся. Сева! Севочка! (Бросается ему на шею.)
Любков (он должен допеть):
Я люблю, признаться, всех,
Но вот эту — больше всех.
(Обнимает Тусю. Бурная музыка, переходящая в эротику.)
Сутки третьи. Комната Туси. Опять поздний вечер. За окном все еще идет снег. На окне сидят Любков и Туся.
Туся. А помнишь, ты хотел стать академиком…
Любков (мрачно). Стал.
Туся. И летчиком…
Любков. Летал.
Туся. И шахматистом…
Любков. Играл…
Туся. И драматургом…
Любков (садится спиной к ней). Хлебал…
Туся. Сева, ты плачешь? Сева, что случилось?
Любков. Ничего не случилось…
В комнату вваливается совершенно пьяный Игорь с девушкой.
Игорь. Ба-ба-бабушка, я пьян! А это Ма-маруся!
Девушка. Ваш Игорь какой-то псих! Меня зовут Валя!
Игорь. Это т-тебе к-кажется…
Девушка. Абсолютный псих! Завтра зачет, а он ни бум-бум!
Любков. Это я беру на себя!
Сутки четвертые. Еще более поздний вечер. Но снег все так же идет. Та же комната, но все по-другому. Протрезвевший Игорь усиленно занимается. Валя в стороне изучает английский язык. Туся работает над собой.
Любков (глядит на них весело). Вот это я понимаю!
Игорь. А знаете, вы — занятный дядька! С одной стороны — вроде положительный, а с другой — вроде отрицательный…
Туся (строго). Игорь!
Валя. Ит из Псих-о-Пат! Энд Психо Паташон!
Все не смеются.
Любков. Ну вот что, я пошел! (Встает, одевается.)
Туся. Сева, ты куда?
Любков (зло). Ты хочешь знать? Изволь, я скажу тебе. Я иду на крышу сбрасывать снег. Дело в том, что я не академик, не герой, не мореплаватель, а… дворник. Прощай, я люблю свое дело!
Туся поспешно одевается.
Куда ты?
Туся. Я с тобой на крышу!
Объятие. В суматохе Игорь целует Валю.
Валя. Ахалпел? Адзынь!
Сутки пятые. Вечер, снег, крыша. Любков и Туся с лопатами.
Туся. Я всегда знала, что ты будешь выше нас всех.
Любков. Какое у тебя ухо красивое… (Поцелуй. Оба тихо поют).
Каравай, каравай,
Кого любишь, выбирай…
Дружно сбрасывают снег с крыши на прохожих. Прохожие строятся парами и организуют коллективные просмотры. Некоторые идут в кино.
•
О член одной из редколлегий,
тебя пою,
Чтоб знали все твои коллеги
судьбу твою.
Давно ты сиднем сел в журнале,
который толст,
Хочу, чтоб все тебя узнали,
где кисть и холст?
Иль схватит лучше карандаш их,
твои черты?
Давно на «наших» и «не наших»
нас делишь ты.
Поэт поет на двойку с плюсом,
еще он хил,
А ты с ним носишься, как с флюсом:
Гомер! Эсхил!
Мигнул ты критику: хвали, мол,
на пять страниц!
На что нам в небе журавли, мол?
Даешь синиц!
И критик «свой» вознес поэта
до неба аж.
Воспел ты критика за это
во весь тираж.
И, щебеча друг другу гимны,
сверх всяких мер,
Явили миру вы взаимной
любви пример.
Рассказ приятель отчекрыжил, —
бросает в дрожь.
Ты сам, читая, еле выжил,
но тиснул все ж.
К другому был бы ты построже,
по части виз,
Но «Дружба качества дороже!» —
был твой девиз.
Зато, касаясь репутаций
«чужих» фигур,
Ты был сторонник ампутаций
и ранних урн.
Теперь свидетель я улыбки
твоей кривой.
Признал ты наскоро ошибки
в передовой.
«Своих» там нежно пощипал ты,
подбив итог,
Зато на прочих наклепал ты,
как только мог.
Ох, вижу я, не стал ты краше
в передовой.
Твои ошибки стали «наши»,
а ты все «свой».
•
(Некоторым молодым)Говорят, прославленные барды
На широком творческом пути
Заводили раньше бакенбарды.
Что бы мне такое завести?
Докажу я всем своей судьбою,
Что питомцу муз не нужен вуз,
Отращу над верхнею губою
Константино-симоновский ус.
Подпишу четыре некролога,
Сочиню три песни для кино.
И добьюсь желанного итога,
Знаменитым стану все равно.
А чтоб критик на меня не цыкал
И редактор обожал меня,
Совмещу я свой «Интимный цикл»
С темпами сегодняшнего дня.
Отражу запашку и прополку,
Плавкой-ковкой начиню строку,
И хоть полюблю не комсомолку,
В профсоюз подругу вовлеку.
Мне бы только подыскать бы тему,
Вот тогда бы я расправил грудь
И загнул такую бы поэму,
Что никто не смог бы разогнуть.
Вот тогда бы поняли все вдруг вы
То, что всем давно пора понять:
Я — поэт! Поэт с огромной буквы!
Лучший! Главный! На большой! На ять!
Чиж редактировал павлина:
— Тут пышно! Пестро здесь! Там длинно!
Убрать! Подрезать! Снять!! Ура!
Теперь — ни пуха, ни пера!
«Отредактирован» на славу,
Стал наш павлин похож на паву.
Глядит и стонет: — Кто ж теперь я?
Отдайте хвост… верните перья…
* * *
Зачем редактор порет дичь?
Такой вот чиж — прискорбен раж его:
Где надобно слегка подстричь,
Там он ощипывает заживо.
•
(Наивные стихи)Критик Икс невзлюбил поэта,
Скажем, Зет.
И узнали мы все про это
Из газет.
А которые не узнали,
Те могли прочесть в журнале.
Что-то Икса, видно, задело,
Бедный Зет!
Бац! За дело и не за дело
Много лет.
Что ни делает Зет — всё втуне:
Икс громит его на трибуне.
От приятельских отношений,
Дружбой вытянутых решений
Пользы нет.
Но от этаких «подношений»,
Неприятельских поношений
Тоже вред.
•