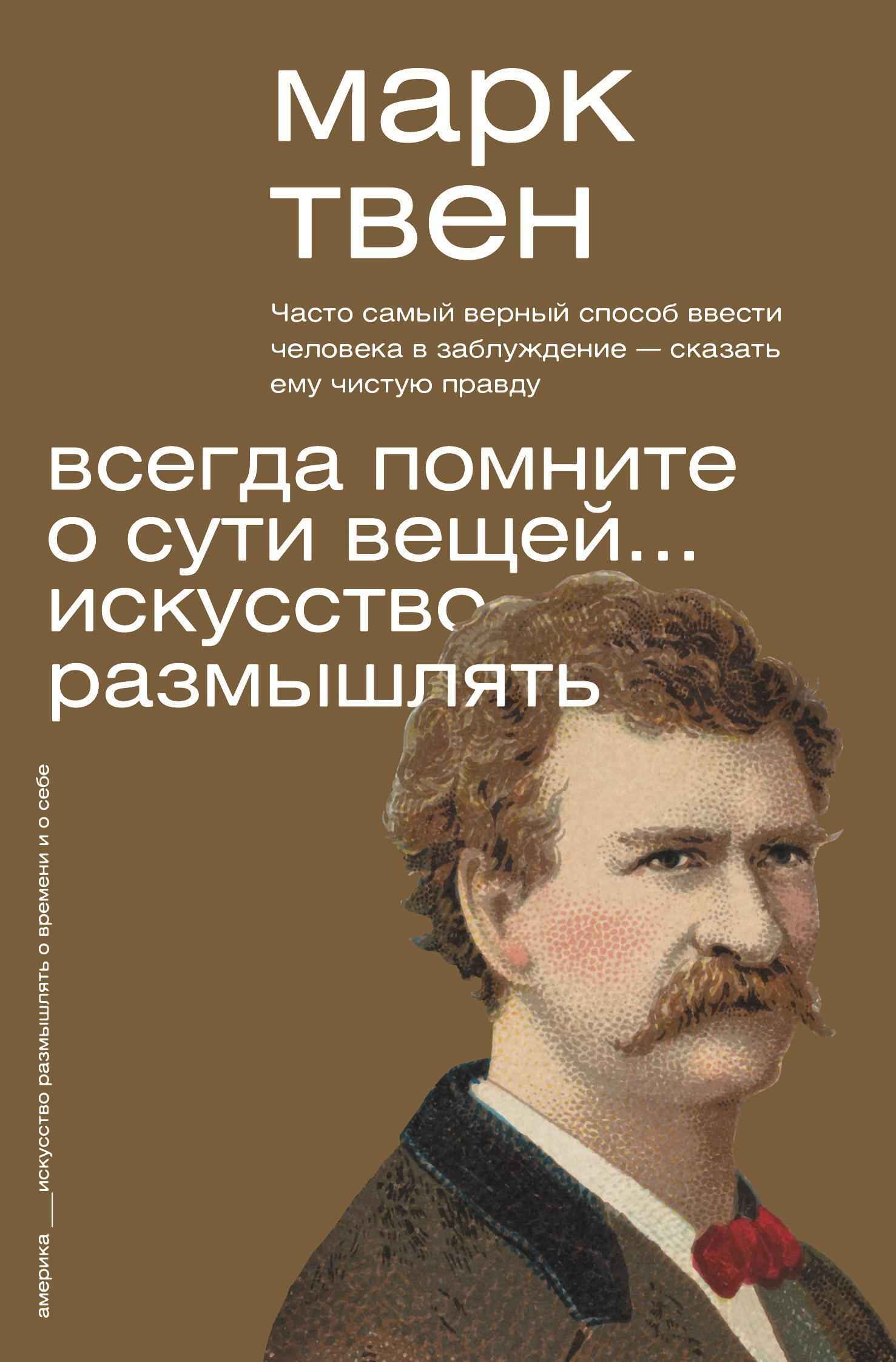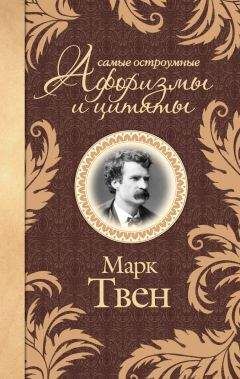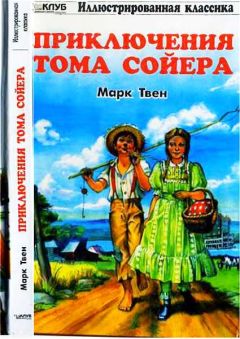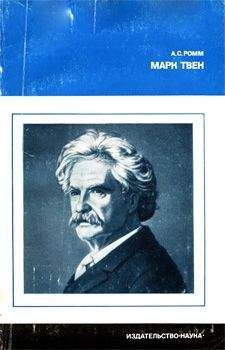и писала пальцем на ладони Эллен – по-видимому, стенографически, ибо происходило это молниеносно.
Мистер Гоуэлс сел на диван рядом с Эллен, она приложила пальцы к его губам, и он принялся рассказывать ей довольно длинную историю, причем можно было наблюдать, как каждая подробность доходит до ее сознания и вызывает в нем вспышку, отблеск которой освещает ее лицо. Затем я сам рассказал ей длинную историю, которую она то и дело всегда в нужных местах сопровождала улыбками, смешками, а иногда и взрывами веселого хохота. Затем мисс Сэлливан поднесла руку Эллен к своим губам и задала вопрос:
– Чем известен мистер Клеменс?
Эллен ответила – как всегда, немного отрывисто.
– Своим юмором.
Я скромно добавил:
– И умом.
А Эллен почти одновременно со мной произнесла те же слова:
– И умом.
Вероятно, это было чтение мыслей, поскольку она никак не могла знать, что именно я сказал.
Так мы очень приятно провели часа два; а потом кто-то спросил, помнит ли еще Эллен руки присутствующих, и может ли она по руке назвать имя гостя. Мисс Сэлливан сказала:
– О, ей это очень легко!
Тогда мы снова продефилировали мимо Эллен, снова пожимая ей руку, и она после каждого рукопожатия говорила что-нибудь любезное и без колебания называла имя владельца руки, – пока дело не дошло до мистера Роджерса, замыкавшего процессию. Эллен пожала его руку, и на ее лице появилось недоумение. Затем она сказала:
– Рада познакомиться с вами теперь. Нас ведь раньше не познакомили.
Мисс Сэлливан сказала ей, что она ошибается, что ее знакомили с этим господином, когда она только вошла в комнату. Но Эллен настаивала на своем: нет, с этим господином она раньше не была знакома. Тогда мистер Роджерс высказал предположение, что путаница произошла из-за того, что он не снял перчатку, когда его знакомили с Эллен. Разумеется, все объяснялось именно этим.
Я ошибся, когда написал, что дело происходило днем, – было утро, и вскоре нас пригласили в столовую к завтраку. Мне пришлось уйти еще до его окончания; проходя мимо Эллен, я легонько погладил ее по голове и направился к двери. Но тут меня окликнула мисс Сэлливан:
– Погодите, мистер Клеменс. Эллен очень огорчилась, потому что она не узнала, чья это рука. Погладьте ее еще раз по голове, пожалуйста.
Я так и сделал, и Эллен сразу сказала:
– А, это мистер Клеменс.
Быть может, кто-нибудь и способен объяснить подобное чудо, но мне это не по силам. Неужели она могла сквозь волосы почувствовать складочки на моей ладони? На этот вопрос должен ответить кто-то другой. Я недостаточно компетентен.
Как я уже сказал, Эллен была больна и не могла присутствовать на нашем учредительном собрании, но дня два-три назад она написала письмо с просьбой прочитать его там. Мисс Холт, секретарша, отправила его мне с посыльным вчера днем. Счастье для меня, что она не прислала его мне прямо на собрание, – в этом случае я не сумел бы дочитать его до конца. Я читал его ровным голосом, в котором, мне кажется, нельзя было заметить ни малейшей дрожи. Но это мне удалось только потому, что днем я прочел его вслух мисс Лайон, и теперь, зная все опасные места, был к ним подготовлен.
В самом начале я объявил собравшимся, что получил это письмо и прочту его в конце нашего заседания. И вот, после того как мистер Чоут произнес свою речь, я приступил к чтению письма, предварив его небольшим вступлением. Я сказал, что, если я хоть что-нибудь понимаю в литературе, это письмо – великолепнейший, замечательнейший, благороднейший ее образец; что это письмо написано просто, от души, без малейшей искусственности, аффектации, жеманства и что оно трогательно, прекрасно, красноречиво; я сказал, что ничего подобного не видел свет с тех самых пор, как пять столетий назад Жанна д’Арк – этот бессмертный семнадцатилетний ребенок, всеми покинутая, предстала в цепях перед своими судьями, цветом французского ума и учености, и неделю за неделей, день за днем разрушала их хитрые ловушки, отвечая им так, как подсказывали ей ее великое сердце и необразованный, но чудесный ум; и каждый раз поле битвы оставалось за ней, и каждый вечер она встречала победительницей. Я сказал, что, по моему мнению, это письмо, написанное молодой женщиной, которая ослепла, оглохла и онемела на втором году жизни и которая стала одной из самых широко и глубоко образованных женщин мира, навсегда войдет в нашу литературу как классическое произведение. Я привожу это письмо здесь.
Рентем, Массачусетс, 27 марта 1906 г.
Милый доктор Клеменс!
Мне очень грустно, что я не могу быть с Вами и с другими друзьями, которые объединили свои силы, чтобы помочь слепым. Собрание в Нью-Йорке – это крупнейшее событие в том движении, которому давно отдано мое сердце, и я глубоко сожалею, что меня там не будет и я не смогу почувствовать той воодушевляющей радости, которую дарит непосредственное соприкосновение с подобным средоточием ума, мудрости и человеколюбия. Я была бы счастлива, если бы мне писали на руке Ваши слова в то мгновение, когда они произносились, если бы я могла следить за живой речью нашего нового посланника в страну слепых. У нас еще никогда не было подобных заступников. Меня утешает только мысль, что там будут произнесены такие верные и горячие слова, каких еще не слышало ни одно собрание. После Вашей речи и речи мистера Чоута любое другое выступление должно показаться лишним; однако я женщина, я не могу молчать и прошу Вас прочесть там это письмо, зная, что Ваш добрый голос сделает его красноречивым.
Чтобы понять нужды слепых, вы, обладающие зрением, должны ясно представить себе, что это значит – не видеть; и вашему воображению может помочь мысль, что и вы тоже еще до конца своего земного пути можете погрузиться во мрак. Попытайтесь же понять, что значит слепота для тех, чьи силы и энергия обречены на бездействие.
Это значит – коротать долгие, долгие дни; а вся жизнь слагается из дней. Это значит – жить бездеятельным, слабым, обездоленным и ощущать, что от всего божьего мира тебя отделяет глухая стена. Это значит – сидеть, беспомощно сложив руки, и чувствовать, как твой дух бьется в своих оковах, как ноют твои плечи, лишенные своего законного бремени – бремени полезного и нужного труда.
Зрячий уверенно занимается своим делом, потому что может сам себя прокормить. Он выполняет свою долю работы в рудниках, в каменоломнях, на заводе, в конторе, и ему не нужны никакие благодеяния, кроме возможности трудиться и получать плату