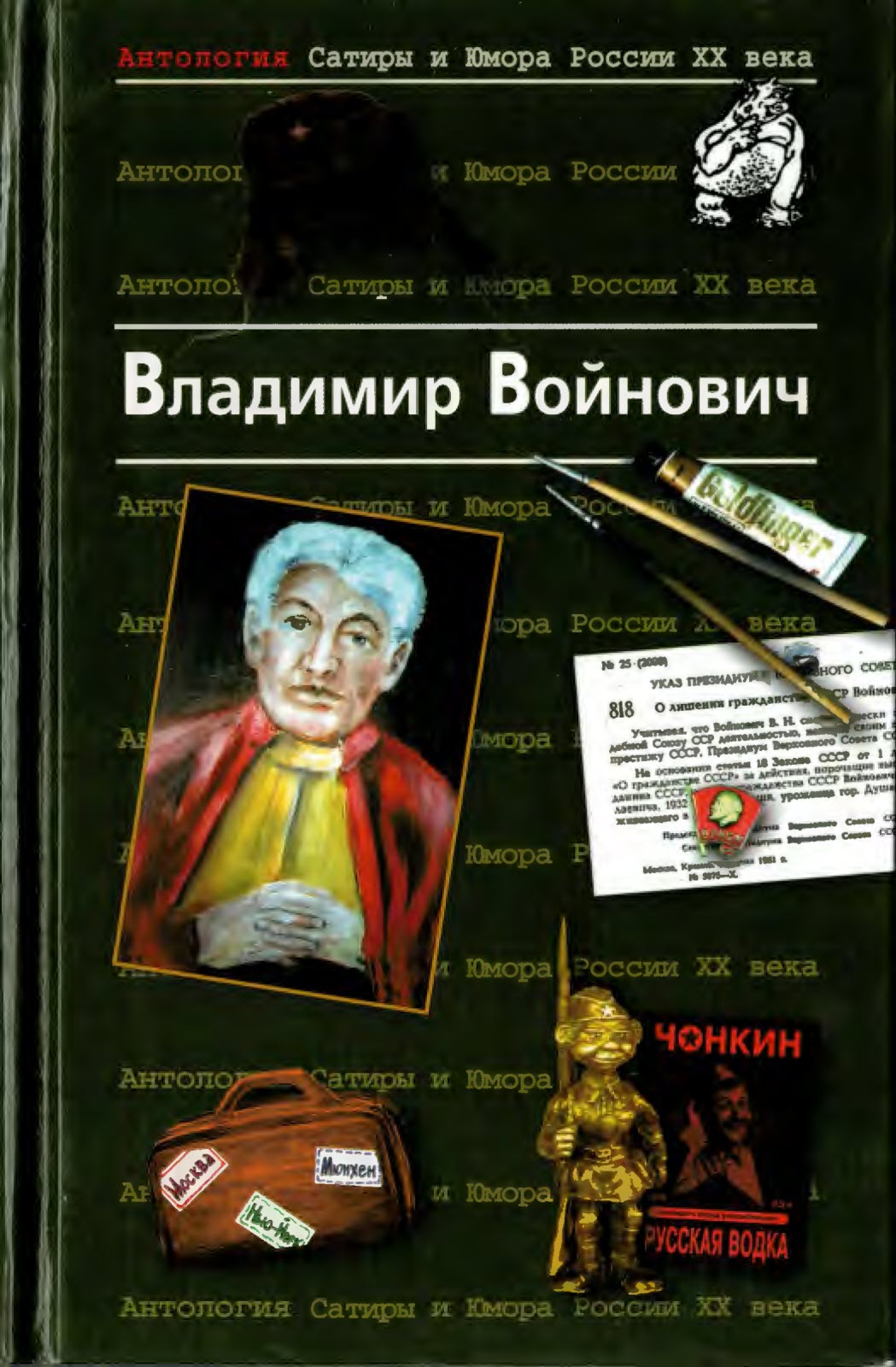а она к нему уже привязалась, сердцем присохла. А стоило ли? Не придется ли вскорости по живому — то отрывать? Неужели снова время придет такое — придешь домой, а дома четыре стены. Хоть с той говори, хоть с этой — она тебе не ответит.
Чонкин подровнял последний угловой столбик, отступил с топором на два шага. Хорошо вроде, ровно. Всадил в столбик топор, достал из кармана масленку с махоркой, газетку, закурил, постучал в окошко:
— Слышь, Нюрка, ты давай прибирай скорее, щас приду, поваляемся.
— Иди, черт чудной. — с ласковой грубостью отозвалась Нюра. — Сколь можно?
— А сколь хошь, — объяснил Чонкин. — Кабы ты не сердилась, так я хоть бы целые сутки.
Нюра только рукой махнула. Иван отошел от окна, задумался о своей будущей жизни, а когда услыхал рядом с собой чей-то голос, даже испугался, вздрогнул от неожиданности.
— Слышь, армеец, закурить не найдешь ли?
Он поднял глаза и увидел рядом с собой Плечевого. Плечевой возвращался с рыбалки. В одной руке он держал удочку, в другой прутик с нанизанными на него мелкими рыбешками. Рыбешек было штук десять. Чонкин снова достал махорку с газеткой и, протянув Плечевому, спросил:
— Ну как, рыбка ловится?
Плечевой прислонил удочку к забору, зажал прут с рыбой под мышкой и, свертывая самокрутку, сказал неохотно:
— Какая там ноне ловитьба! Это несчастье одно, а не рыба. Кошке отдам, пущай жрет. Раньше, бывало, щуки на блесну ловились во какие. — Он прикурил от Ивановой цигарки и, коснувшись правой рукой левого плеча, вытянул левую руку, показывая, какие именно были щуки. — А сейчас щуку здесь днем с огнем не найдешь. Караси их, что ли, пожрали. А ты что ж, с Нюркой живешь? — переменил он ни с того ни с сего разговор.
— Ага, с Нюркой, — согласился Иван.
— И после службы думаешь с ней оставаться? — допытывался Плечевой.
— Не решил еще, — задумчиво сказал Иван, не зная, стоит ли доверять свои сомнения малознакомому человеку. — Вообще, конечно, Нюрка — баба справная и видная из себя, но и я ведь тоже еще молодой, обсмотреться надо сперва что к чему, а потом уж и обзаводиться по закону в смысле семейной жизни.
— А на что тебе обсматриваться? — сказал Плечевой. — Женись, да и все. У Нюрки все ж таки своя изба и своя корова. Да где ж ты еще такое найдешь?
— Вообще-то верно…
— Вот я тебе и говорю — женись. Нюрка — баба очень хорошая, да, тебе про нее никто плохого не скажет. Она вот, сколь ни жила одна, никогда ни с кем не путалась, и мужика у ей отродясь никакого не было. Только с Борькой одним и жила, да.
— С каким Борькой? — насторожился Иван.
— С каким Борькой? А с кабаном ейным, — охотно объяснил Плечевой.
Чонкин от неожиданности подавился дымом, закашлялся, бросил цигарку на землю и раздавил ее каблуком.
— Брось чудить, — сказал он сердито, — Какого еще такого кабана выдумал?
Плечевой посмотрел на него голубыми глазами.
— А чего я тебе сказал? Тут ничего такого и нет. Известно, женщина одинокая, а ей тоже требуется, да. И сам посуди — ему уж в обед сто лет, а она его резать не хочет, а почему? Да как же его зарежешь, если, бывало, она в постелю, а он до ее. Накроются одеялом и лежат, как муж и жена. А так кого хошь на деревне спроси, и тебе каждый скажет: лучше Нюрки никого не найти.
Довольный произведенным впечатлением. Плечевой взял удочку и не спеша пошел дальше, попыхивая цигаркой, а Чонкин долго еще стоял с отвалившейся нижней челюстью, провожая Плечевого растерянным взглядом и не зная, как относиться к только что услышанной новости.
Нюра, подоткнув юбку, мыла в избе полы. Распахнулась дверь, на пороге появился Чонкин.
— Погоди, протру пол, — сказала Нюра, не заметив его возбужденного состояния.
— Нечего мне годить, — сказал он и прошел в грязных ботинках к вешалке, где висела винтовка. Нюра хотела заругаться, но поняла, что Чонкин чем-то расстроен.
— Ты чего? — спросила она.
— Ничего. — Он сорвал винтовку и вскрыл затвор, чтобы проверить патроны. Нюра с тряпкой стала в дверях.
— Пусти! — Он подошел с винтовкой в руках и попытался отодвинуть ее прикладом, словно веслом.
— Ты чего это надумал? — закричала она, заглядывая ему в глаза. — На что ты ружье берешь?
— Пусти, сказано тебе. — Он двинул ее плечом.
— Скажи — зачем? — стояла на своем Нюра.
— Ну ладно. — Чонкин поставил винтовку к ноге и посмотрел Нюре в глаза. — Чего у тебя было с Борькой?
— Да ты что? С каким Борькой?
— Известно, с каким. С кабаном. Ты с им давно живешь?
Нюра попыталась улыбнуться.
— Ваня, ты это шутейно, да?
Этот вопрос почему-то совершенно вывел его из равновесия.
— Я вот тебе дам шутейно! — Он замахнулся прикладом. — Говори, стерва, когда ты с им снюхалась?
Нюра посмотрела на него ошалелым взглядом, как бы пытаясь понять, не сошел ли он с ума. А если нет, значит, она сумасшедшая, потому что ее бедный рассудок не мог охватить смысла того, что было здесь сказано.
— Господи, что же это такое творится! — простонала Нюра.
Она выпустила из рук тряпку и, обхватив голову мокрыми руками, отошла к окну. Села на лавку и заплакала тихо, беспомощно, как плачут больные дети, у которых не хватает сил плакать громко.
Такой реакции на свои слова Чонкин не ожидал. Он растерялся и, топчась у открытых дверей, не знал, как ему поступить. Потом прислонил винтовку к стене и подошел к Нюре.
— Слышь, Нюрка, — сказал он, помолчав, — ну, если чего и было, я ж ничего. Я его шмальну, и все, и дело с концом. По крайности, хоть мясо будет, какое там никакое. А то бегает по двору, как собака, только хлеб зазря переводит.
Нюра все так же плакала, и Чонкин не понял, слышала она его или нет. Он провел своей шершавой ладонью по ее волосам и, подумав, сказал иначе:
— Ну, а если не было ничего, так ты мне, Нюрка, скажи. Я ведь не со зла. а сдуру. Мне Плечевой бухнул, а я, не подумавши, тоже. Народ ведь у нас, Нюрка, злой, нехороший, и когда женщина или девушка живет по отдельности, про нее чего только не скажут.
Слова его, однако, успокоения не внесли, а произвели совершенно обратное действие. Нюра закричала дурным голосом, упала на лавку, обхватила ее руками и стала давиться в рыданиях, вздрагивая всем телом.
Чонкин в отчаянии забегал перед ней, засуетился, потом упал на колени