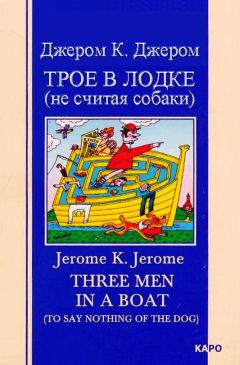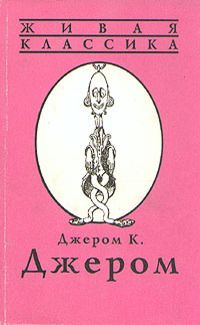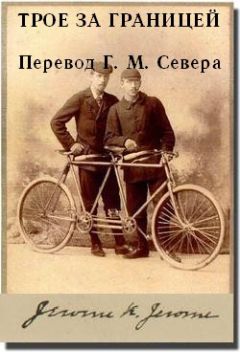Все-таки странно, насколько наш разум и чувства подчинены органам пищеварения. Нельзя ни работать, ни думать без разрешения желудка. Желудок определяет наши ощущения, наши настроения, наши страсти. После яичницы с беконом он велит: «Работай!» После бифштекса и портера он говорит: «Спи!» После чашки чая (две ложки чая на чашку, настаивать не больше трех минут) он приказывает мозгу: «А ну-ка воспрянь и покажи, на что ты способен. Будь красноречив, и глубок, и тонок; загляни проникновенным взором в тайны природы; простри свои белоснежные крыла — трепещущую мечту и богоравный дух — и воспари над суетным миром и направь свой полет сквозь сияющие россыпи звезд к вратам вечности».
После горячих сдобных булочек он говорит: «Будь тупым и бездушным, как домашняя скотина, — безмозглым животным с равнодушными глазами, в которых нет ни искры фантазии, надежды, страха и любви». А после изрядной порции бренди он приказывает: «Теперь дурачься, хихикай, пошатывайся, чтобы над тобой могли позабавиться твои ближние; выкидывай глупые шутки, бормочи заплетающимся языком бессвязный вздор и покажи, каким полоумным ничтожеством может стать человек, когда его ум и воля утоплены, как котята, в рюмке спиртного».
Мы всего только жалкие рабы нашего желудка. Друзья мои, не поднимайтесь на борьбу за мораль и право! Заботьтесь неусыпно о своем желудке, наполняйте его старательно и обдуманно. И тогда без всяких усилий с вашей стороны в душе вашей воцарятся спокойствие и добродетель; и вы будете добрыми гражданами, любящими супругами, нежными родителями, — словом, достойными и богобоязненными людьми.
До ужина Джордж, Гаррис и я были раздражительны, задиристы, сварливы; после ужина мы блаженно улыбались друг другу и нашей собаке. Мы любили друг друга, мы любили весь мир. Гаррис нечаянно наступил Джорджу на мозоль. Случись это до ужина, Джордж высказал бы такие пожелания и надежды касательно будущности Гарриса как на этом, так и на том свете, которые заставили бы содрогнуться человека с воображением.
Теперь он сказал всего-навсего:
— Полегче, старина! Это моя любимая мозоль.
А Гаррис, вместо того чтобы крайне нелюбезным тоном сделать замечание, что трудно не наступить Джорджу на ноги, находясь всего в десяти ярдах от него; вместо того чтобы посоветовать человеку с ногами такой длины никогда не влезать в лодку обычных размеров; вместо того чтобы предложить Джорджу развесить свои ноги по обоим бортам, — вместо этого он просто сказал: «Ах, дружище, прости, пожалуйста! Надеюсь, тебе не очень больно?»
И Джордж сказал: «Ни капельки!» — и добавил, что сам виноват и просит прощения. А Гаррис возразил, что, наоборот, виноват исключительно он.
Слушать их было одно удовольствие.
Мы закурили трубки и сидели, любуясь тихой ночью, и разговаривали.
Джордж высказал мысль: почему бы нам не остаться навсегда вдали от греховного мира с его пороками и соблазнами, ведя скромную, простую, воздержную жизнь и творя добро. Я сказал, что давно мечтал о чем-нибудь в таком роде. И мы стали раздумывать, не отрешиться ли нам четверым от мира и не обосноваться ли на каком-нибудь удобно расположенном и хорошо обставленном необитаемом острове, чтобы зажить там среди лесов.
Гаррис заметил, что он слыхал, будто главным недостатком необитаемых островов является сырость; но Джордж возразил, что ничего подобного, если предварительно как следует осушить их, чтобы не бояться промочить ноги.
Тут кто-то из нас заметил, что лучше промочить горло, чем промочить ноги, и в связи с этим Джордж вспомнил одну забавную историю, происшедшую с его отцом. Джордж рассказал, что его отец путешествовал по Уэльсу с приятелем и однажды они остановились на ночь в гостинице, где проживали еще несколько молодых людей, и они (отец Джорджа и его друг) присоединились к этим молодым людям и провели вечер в их обществе.
Компания была веселая, засиделись они допоздна, и когда пришло время отправляться спать, то оказалось, что оба (отец Джорджа был тогда еще зеленым юнцом) изрядно накачались. Они (отец Джорджа и его приятель) должны были спать в одной комнате с двумя кроватями. Они взяли свечу и поднялись к себе. И когда они добрались до своей комнаты, свеча пошатнулась и, наткнувшись на стенку, погасла, так что им предстояло раздеваться и ложиться в постель ощупью. Так они и сделали; но забрались они, сами того не подозревая, в одну и ту же постель, хотя им казалось, что ложатся они в разные; при этом один устроился, как и полагается, головой на подушке, а второй, вползавший на кровать с другой стороны, улегся, водрузив на подушку ноги.
На минуту воцарилось молчание, потом отец Джорджа сказал:
«Джо!»
«В чем дело, Том?» — ответил голос Джо с другого конца кровати.
«Послушай! В моей постели уже кто-то есть, — сказал отец Джорджа, — его ноги у меня на подушке».
«Подумай, какое странное совпадение, Том, — ответил Джо. — Провалиться мне на месте, если в мою постель тоже кто-то не забрался».
«Что же ты собираешься делать?» — спросил отец Джорджа.
«Я? Я собираюсь сбросить этого типа на пол», — ответил Джо.
«Я тоже», — храбро заявил отец Джорджа.
Последовала короткая схватка, закончившаяся двумя полновесными ударами об пол; потом жалобный голос позвал:
«Том, а Том?»
«Ну?»
«Как твои дела?»
«Знаешь, честно говоря, — мой тип сбросил на пол меня!»
«А мой — меня! Это не гостиница, а черт знает что!»
— Как называлась гостиница? — спросил Гаррис.
— «Свинья со свистулькой», — ответил Джордж. — А что?
— Да нет, значит это не та, — сказал Гаррис.
— А почему ты спрашиваешь? — настаивал Джордж.
— Видишь ли, какая штука, — пробормотал Гаррис. — Точно такое же приключение случилось и с моим отцом в одной провинциальной гостинице. Я часто слыхал от него этот рассказ. Я подумал, может, это было в той же гостинице?..
Мы улеглись спать в десять часов, и я считал, что благодаря усталости сразу усну, но не тут-то было. Обычно я раздеваюсь и кладу голову на подушку, а потом кто-нибудь барабанит в дверь и кричит, что уже пора вставать; но сегодня, казалось, все было против меня. Новизна обстановки, жесткое дно лодки, служившее мне ложем, неудобная поза (мои ноги были под одной скамейкой, а голова — на другой), плеск воды о лодку и шуршание листвы от порывов ветра — все это отвлекало меня и не давало уснуть.
Все-таки я заснул и проспал несколько часов. Потом какая-то часть лодки, выросшая только на эту ночь (ибо ее еще не было, когда мы отправлялись в путь, и она исчезла к утру), впилась мне в позвоночник. Некоторое время я все же еще спал, и мне снилось, будто бы я проглотил соверен и, чтобы его извлечь, в моей спине буравят дырку. Я считал, что это бестактно, и просил поверить мне в долг, и обещал расплатиться в конце месяца. Но меня и слушать не хотели и настаивали на том, чтобы вытащить деньги немедленно, потому что в противном случае нарастут большие проценты. Тут у нас произошла словесная перепалка, и я высказал своим кредиторам все, что о них думал. И тогда они повернули бурав с таким изощренным садизмом, что я проснулся.
В лодке было душно; голова у меня болела. Я решил выйти подышать свежим ночным воздухом. Я натянул на себя оказавшуюся под рукой одежду (кое-что было мое, а кое-что — Джорджа и Гарриса) и выбрался из-под тента на берег.
Ночь была чудесная. Луна уже зашла, оставив притихшую землю наедине со звездами. Казалось, что, пока мы, ее дети, спали, звезды вели беседу с нею, со своей сестрой, и поверяли ей свои тайны голосами слишком низкими и глубокими для младенческого слуха человека.
Они невольно вызывают в нас благоговейный трепет, эти яркие и холодные, удивительные звезды… Мы похожи на заблудившихся детей, попавших случайно в полуосвещенный храм божества, которое их учили почитать, но которое они до конца не познали; и они стоят под гулким сводом, затканным мириадами призрачных огней, и глядят вверх, надеясь и боясь увидеть некое страшное видение, парящее в вышине.
И все же ночь кажется исполненной силы и умиротворенности. Перед ее величием тускнеют и стыдливо прячутся наши маленькие горести. День был полон суеты и волнений, наши души были полны зла и горечи, а мир казался жестоким и несправедливым к нам. И вот ночь, великая любящая мать, ласково прикасается своей ладонью к нашему пылающему лбу, и заставляет нас повернуться к ней заплаканным лицом, и улыбается нам; и хотя она безмолвствует — мы знаем все, что она могла бы нам сказать, и мы прижимаемся горящей щекой к ее груди, и горе наше проходит.
Порою горе наше поистине глубоко и мучительно, и мы безмолвно стоим перед лицом Ночи, ибо у нашего горя нет слов, а есть только стон. И Ночь полна сострадания к нам. Она не может облегчить нашей боли, но она берет нашу руку в свою, и маленький мир уходит куда-то далеко-далеко и становится совсем крошечным, а мы на темных крыльях Ночи переносимся пред лицо еще более могущественного существа, чем она сама, и вся жизнь человеческая, освещенная сиянием этого существа, лежит перед нами как открытая книга, и мы понимаем, что горе и страдание — лишь ангелы божьи.