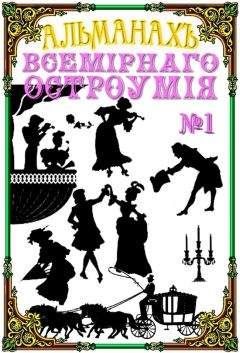Будучи наследником престола и цесаревичем, Павел Петрович нередко подвергался неудовольствию императрицы Екатерины, его родительницы. Раз она так на него прогневалась, что приказала состоявшему при ней камергеру и ордонанс-адъютанту[48], князю Николаю Ивановичу Салтыкову, немедленно арестовать великого князя, препроводить его в Петропавловскую крепость и держать там впредь до повеления. Спустя нисколько времени Екатерина, среди своих важных занятий почти забывшая об этом своем распоряжении, – вдруг однажды спросила князя Салтыкова: – «А что наш арестант, как он раскаивается в крепости?» – Тогда Салтыков, став на колени перед императрицей, сказал ей: – «Ваше величество! Казните меня, как неисполнителя вашей воли, но внемлите: великий князь и минуты не был в крепости, а находился в домашнем apecте. Я осмелился так поступить по чувству долга верноподданного, потому что исполнение воли вашего величества в момент раздражения могло иметь, самое меньшее, то печальное последствие, что вы сожалели бы о сем вашем действии». – Императрица не выразила князю Салтыкову особенной признательности, но нисколько не прогневалась на него и велела немедленно освободить своего юного арестанта и прислать его к ней. Как только она увидала великого князя цесаревича, то, указывая на Салтыкова, сказала: – «Не меня, а его благодари», – при чем рассказала все как было. – Наследник, обнимая князя Николая Ивановича, тогда будущего еще воспитателя будущих великокняжеских детей, сказал: – «Я услуги этой никогда не забуду и когда буду иметь власть, то награжу тебя на удивление всех». – И действительно: спустя двадцать пять лет после этого случая, в первый день своего восшествия на престол, – государь пожаловал князя Салтыкова, никогда на войне не бывавшего, фельдмаршальским жезлом, действительно на удивление всем.
* * *
Раз случилось императору Павлу встретить одного армейского офицера, который шел по улице без шпаги, а шпагу нес солдат в некотором расстоянии. Государь, проехав довольно быстро мимо этого небрежного и ленивого офицера, пренебрегавшего даже оружием, присвоенным его званию и мундиру, возвратился назад и спросил солдата, чью несет он шпагу. – «Офицера моего, который впереди идет». – «Офицера! – сказал удивленный государь, – так значит, что ему слишком трудно носить шпагу и ему она, видно, наскучила. Так надень-ка ты ее на себя, а ему отдай с портупеею штык свой: он ему будет легче и покойнее». – Этим словом государь вдруг пожаловал этого солдата в офицеры, а офицера разжаловал в солдаты. И пример этот, произведя ужасное впечатлено во всей армии, имел великое действие: офицеры перестали сибаритничать и стали лучше помнить свой сан и свое звание.
* * *
Император Павел Петрович встретил однажды на улице таможенного чиновника, до того пьяного, что тот едва на ногах держался. «Ты пьян»! – сказал ему гневно монарх. – «Так точно, ваше императорское величеств». – «Где это ты так напился?» – «На службе вашего императорского величества». – «Это что за вздор, как на службе?» – «Да, ваше величество, усердствуя по служебным обязанностям: я эксперт, т. е. обязанность моя пробовать на язык все привозные спиртуозные напитки».
* * *
Сын Александра Львовича Нарышкина, генерал-майор (бывший впоследствии генерал-адъютантом и пр.), в войну с французами, получил от главнокомандующего армией поручение удержать какую-то занятую им позицию. Император Александр Павлович сказал ему: – «Я боюсь за твоего сына: он занимает важное место.» – «Не опасайтесь, ваше величество, – отвечал Нарышкин, – мой сын в меня: что «займет», того не отдаст».
* * *
Во время нашей Отечественной войны с французами в 1812 году, когда армия Наполеона I начала отступать, и войска терпела страшный недостаток в хлебе, откуда-то подвезли неожиданно множество сухарей, для уборки которых не нашлось никакого складочного места, так что начальство принуждено было свалить их грудой на открытом воздухе и приставить часового. К заманчивой груде подошел родной брат часового и протянул руку к сухарю. «Берегись! убью!» – закричал часовой, прицеливаясь. – «Братец, голубчик! Один только сухарик! Я три дня крошки во рту не ел!» – «Не попадайся мне только спереди, а за спиной меня глаз нет!» – возразил находчивый караульщик и, повернувшись от груды, медленно начал шагать, давая полную, возможность брату удовлетворить голод, не изменяя в то же время и своему долгу.
* * *
Граф Остерман[49] сказал в 1812 г. маркизу Паулучи: Для вас Poccия – рубашка, вы ее надели и снимете, когда захотите, а для меня Россия – кожа».
* * *
Император Александр Павлович был чрезвычайно скромен и ничего не приписывал своим личным заслугам. Однажды г-жа де Сталь[50] сказала ему: – «Как счастливы подданные такого государя!» – «О! сударыня, – возразил император, – я более ничего как счастливый случай».
* * *
Однажды, живя в Париже, знаменитый грае Ростопчин, прославившийся своим главноначальствованием в Москве, перед взятием ее французами в 1812 году, встретился с бывшим правителем канцелярии генерала Тормасова, который был преемником Ростопчина по званию московского главнокомандующего. С некоторою ехидностью Ростопчин спросил бывшего Тормасовского чиновника: – «А что, небось в Москве вы с вашим начальником славно потормозили?» – давая через то почувствовать, что ему известны какие-нибудь злоупотребления. – «Да нечего нам было тормозить, ваше-ство, – отвечал остроумный чиновник, – потому что до нас все в Москве было растоптано».
* * *
Начальник артиллерийского 6-го пехотного корпуса, генерал-лейтенант Василий Григорьевич Костенецкий в 1812 г. в пылу Бородинской сечи был внезапно окружен польскими уланами, которые, выдержав убийственный огонь одной из батарей Костенецкого, смело понеслись на нее и начали рубить канониров. Костенецкий, видя это, схватил банник, одним ударом сбросил с лошади ближайшего к нему улана, ринулся в толпу неприятеля и начал колотить одного за другим. Подражая, примеру начальника, канониры, принялась бить в свою, очередь чем попало, так что испуганный неприятель обратил тыл. Эта неожиданная удача подала мысль Костенецкому предложить императору Александру I ввести в артиллерии железные банники. – «Отчего нет, – отвечал государь, – но где взять Костенецких, чтобы владеть ими?»
* * *
Благодушие императора Александра Павловича проявлялось в его интимных сношениях с своими приближенными, в числе которых на первом плане стоял грубый и неотесанный Аракчеев. Однажды Аракчеев купил в Гостином Дворе литографию с изображением двух дерущихся мужиков. Картинка эта имела целью осмеять страсть к кулачным боям, которая в Москве сильно, как известно, процветала еще и в те времена, по-видимому, более цивилизованные и прогрессивные. Под рисунком этим была подпись: «Два дурака дерутся, а третий смотрит». – Аракчеев привез картинку в своем портфеле вместе с бумагами для доклада императору и обратил на нее его внимание, как на издание едва ли не достойное запрещения. Это он по-своему, шутить изволил. Александр Павлович, как ни разглядывал картинку в лорнет и без лорнета, все-таки никак не мог понять, почему Аракчеев подозревает в этой литографии что-нибудь противумонархическое. – «Да как же, государь, – сказал он гнусавя, по своему обыкновению, – как же, ведь картинка эта вам грубит теперь же, вот cию же минуту, когда вы смотрите на этих двух дерущихся дураков». – «Ничего не понимаю, любезный Алексей Андреевич!» – возразил Александр Павлович. – «Ну, да как же, ваше величество? А что в подписи-то сказано: «два дурака дерутся, а третий смотрит». – Император расхохотался и картинка эта была в течение целого дня орудием его шуток с придворными.
* * *
Великий князь цесаревич Константин Павлович желал увидеть поручика Александрова, т. е. кавалериста-девицу, г-жу Дурову, делавшую, как известно, в 1812 г. часть кампании. Эта амазонка была далеко не красавица. Великому князю ее показали, или даже, кажется, представили, при чем г-жа Дурова выражала желание услышать из уст его высочества что-нибудь интересное и правдивое, к чему прибавила, что великий князь может быть уверен в ее скромности. Цесаревич, осмотрев со всех сторон эту безобразную женщину с солдатским, георгиевским крестом на груди, сказал ей на ухо: «Уродил же Господь Бог такую рожу!» – и с этими словами отошел в сторону.
* * *
Статс-секретарь Николай Михайлович Лонгинов однажды исправлял должность министра юстиции, именно в 1840 году. Тогда император Николай Павлович возымел на сенатора графа Василия Петровича Завадовского очень большое неудовольствие по одному делу, впрочем, не служебному и нисколько бросавшему тени на характер графа, и положил на иске по оному резолюцию: – «Управляющему министерством юстиции объявить графу Завадовскому мой выговор в сенате». Тут, разумеется, шло дело о выговоре «в присутствии сената», что было чем-то небывалым и чрезвычайно тяжким наказанием. Лонгинов, давно знавший графа и всегда расположенный к добру, решился избавить его от такого выговора, который был бы для него жестоким оскорблением. И Лонгинов распорядился следующим образом: он написал к графу пpиятeльскую записку, приглашая его приехать завтра в сенат, в 8 часов утра, по важному делу. В назначенный час они съехались в сенате, где, разумеется, не было еще никого кроме сторожей, топивших печи и натиравших полы. Лонгинов ввел графа в присутственную комнату, с глазу на глаз объяснил ему в чем дело, прочел резолюцию Государя и затем сказал: – «Теперь я исполнил высочайшее повеление и дал вам выговор «в сенате». Само собою разумеется, что признательность всего семейства Завадовских Лонгинову была беспредельна, тем более, что Лонгинов сильно рисковал собственной своей карьерой, потому что император Николай Павлович в серьезных делах игры слов не допускал.