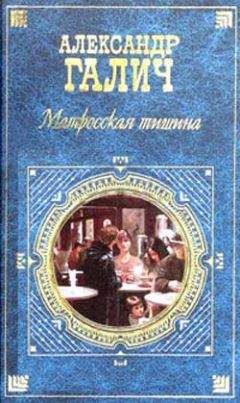много лет в лагерях. Он написал, по-моему, об этом прекрасную книжку, цикл рассказов и очерков об этом [ «Колымские рассказы»]. Когда я её прочёл, мне захотелось написать песню, посвящённую ему. И, кстати, было очень странно: я у одного нашего знакомого пел песни… Сидел какой-то очень высокий человек, костлявый. Сидел, приложив руку к уху, — так слушал меня. Когда я сказал, что вот песня, посвящённая Варламу Тихоновичу Шаламову, он подсел совсем близко, просто прямо лицом к лицу. Мне было очень неудобно петь, и я очень злился во время того, как я пел эту песню. А потом, когда я кончил, он встал, обнял меня и сказал: «Ну вот, значит, давайте познакомимся. Я и есть Шаламов Варлам Тихонович. Так мы с ним познакомились»
А ты стучи, стучи, а тебе Бог простит.
А начальнички тебе, Лёха, срок скостят!
А за Окой сейчас небось коростель свистит,
А у нас на Тайшете ветра свистят.
А месяц май уже, а всё снега белы,
А вертухаевы на снегу следы,
А что полнормы — тьфу, это полбеды,
А что песню спел — полторы беды!
А над Окой летят гуси-лебеди,
А за Окой свистит коростель,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!
А первый зэка, он с Севастополя,
Он там, чёрт чудной, Херсонес копал,
Он копал, чумак, что ни попадя,
И на полный срок в лагеря попал.
И жену его, и сынка его,
И старуху мать, чтоб молчала, блядь!
Чтобы знали все, что закаяно
Нашу родину сподниза копать!
А в Крыму теплынь, в море сельди,
И миндаль небось подоспел,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!
А второй зэка — это лично я,
Я без мами жил, я без пали жил,
Моя б жизнь была преотличная,
Да я в шухере стукаря пришил!
А мне сперва вышка, а я в раскаянье,
А уж в лагере — корешей внавал,
И на кой я пёс при Лёхе-Каине
Чумаку подпел «Интернационал»?!
А в караулке пьют с рафинадом чай,
А вертухай идёт, весь сопрел.
Ему скучно, чай, и несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел!
В майский вечер, пронзительно дымный,
Всех побегов герой, всех погонь,
Как он мчал, бесноватый и дивный,
С золотыми копытами конь!
И металась могучая грива
На ветру языками огня,
И звенела цыганская гривна,
Заплетённая в гриву коня.
Воплощенье весёлого гнева,
Не крещённый позорным кнутом,
Как он мчал — всё налево, налево
И скрывался из виду потом.
Он, бывало, нам снился ночами,
Как живой — от копыт до седла…
Впрочем, всё это было в начале,
А начало прекрасно всегда.
Но приходит с годами прозренье,
И томит наши души оно,
Словно горькое, трезвое зелье
Подливает в хмельное вино.
Постарели мы и полысели,
И погашен волшебный огонь.
Лишь кружит на своей карусели
Сам себе опостылевший конь!
Ни печали не зная, ни гнева,
По-собачьи виляя хвостом,
Он кружит — всё налево, налево
И направо, направо потом.
И унылый сморчок-бедолага,
Медяками в кармане звеня.
Карусельщик — майор из ГУЛАГа —
Знай гоняет по кругу коня!
В круглый мир, намалёванный кругло,
Круглый вход охраняет конвой…
И топочет дурацкая кукла,
И кружит деревянная кукла,
Притворяясь живой.
Спрашивает мальчик: почему?
Спрашивает мальчик: почему?
Двести раз и триста: почему?
Тучка набегает на чело.
А папаша режет ветчину,
А папаша режет ветчину,
Он сопит и режет ветчину
И не отвечает ничего.
Снова замаячили быль, боль,
Снова рвутся мальчики в пыль, в бой!
Вы их не пугайте, не отваживайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, спрашивайте!
Спрашивайте: как и почему?
Спрашивайте: как и почему?
Как, и отчего, и почему —
Спрашивайте, мальчики, отцов!
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину, —
Надо ж отвечать, в конце концов!
Но в зрачке-хрусталике — вдруг муть,
А старые сандалики — ух, жмут!