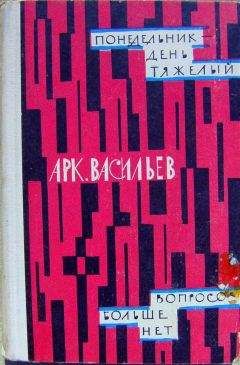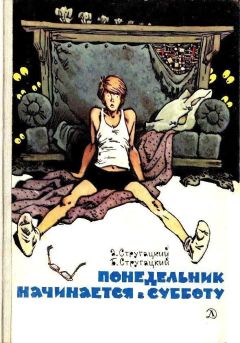О возрасте лучше не думать. Я помню, как мама говорила: «Кто много думает о возрасте, тот не успевает жить». Она говорила резче: «Кто много думает о смерти…» Ничего не поделаешь, когда-то это придет и ко мне, но сейчас я не хочу думать. Я очень люблю жизнь! Даже мой Мишка в домашнем сочинении написал, что мама у него жизнелюб и жизнеутверждающая личность. Правда, за сочинение он «схлопотал» тройку, так как не смог объяснить учителю литературы Герману Степанычу, что это такое — жизнелюб. Я знаю, откуда Мишка взял эти слова. Зашел к нам как-то брат мужа — Иван Петрович. Это от него мой Мишка услышал, что я жизнелюб и жизнеутверждающая личность.
Иван Петрович меня не любит. Я это чувствую. Впрочем, назвать человека, которого бы Иван Петрович любил, очень трудно, по-моему, таких людей нет вообще. Стоит кому-нибудь, и особенно мне, в присутствии деверя сказать о человеке хорошее, как он сразу безапелляционно произносит:
— Ерунда! Подлюга!..
Самые мягкие слова у него: карьерист, подхалим каких мало, выскочка.
Иван Петрович не может долго сидеть на одном месте. Даже обедая, он вскакивает из-за стола и начинает быстро-быстро ходить по комнате. Однажды он появился у нас к вечернему чаю. Мы все, и Алеша и дети, очень любили эти спокойные часы — разговариваем обо всем на свете, смотрим телевизор. Теперь таких вечеров у нас уже нет…
Иван Петрович весь вечер так и не присел. Он все ходил со стаканом вокруг стола, и у меня даже заболела голова от его мелькания. Он все время торопливо говорил, словно боялся, что его не дослушают, прервут. А вот о чем он говорил, никто из нас ясно представить не мог.
Сначала он почему-то заговорил о развитии химической промышленности.
— Ну что ж — химия так химия, — сказал он не то иронически, не то с каким-то горьким сожалением. — Им наверху виднее. Хотя у нас, кроме химии…
Он остановил свой бег вокруг стола, отпил глоток чаю и сокрушенно продолжал:
— Нет чтобы посоветоваться с деловыми людьми…
Алеша во время речей старшего брата, как правило, молчит. Сначала я удивлялась его терпению, а потом поняла, что Алеша просто не слушает, думает о чем-то своем. Но в конце концов происходит одно и то же — Алеша задает такой вопрос, что Иван теряется, не может ответить прямо, умолкает и вскоре уходит.
В тот вечер Иван Петрович все время возвращался к химической промышленности. Он ссылался на опыт других стран, кого-то убеждал, над кем-то иронизировал, торопливо писал в блокноте какие-то цифры.
Первым уполз из-за стола Мишка. Он тоскливо посмотрел на меня и ушел спать. Минут через пять поднялась Таня. Она подошла к дяде и очень вежливо сказала:
— Извините, у меня завтра трудный день.
Иван Петрович на секунду прервал речь и удивленно спросил:
— Тебе не интересно, о чем я говорю? — Он махнул рукой и добавил: — Вам, современным, подавай что-нибудь такое… неореализм, синтетику, модерн…
Таня, она у меня вся в Алешу, выдержанная, спокойная, чуть заметно улыбнулась и ответила:
— Я, дядя, очень люблю Чайковского…
Иван Петрович побледнел. Он, когда сердится, всегда бледнеет, говорит еще торопливее, глотает слова.
— А этого… американца… Как его…
— Вана Клиберна?
— Нет… Рисует непонятно…
— Пикассо?
— Ну, он…
— Он, дядя, не американец, а испанец, а живет во Франции. Успокойтесь, дядя, я к нему равнодушна… Наверное, просто не понимаю…
Таня ушла. Иван Петрович снова вернулся к химии, но Алеша, как всегда, задал ему категорический вопрос:
— По твоим расчетам выходит, что у нас ничего не выйдет?
Иван Петрович остановился. В его глазах на мгновение мелькнул испуг, потом он словно протрезвел и уже совсем другим тоном, миролюбиво переспросил:
— Не выйдет? Я этого не говорил, и ты мне, пожалуйста, такое не приписывай… Пожалуйста, не приписывай… У меня своих выговоров хватает.
Выговор у Ивана Петровича только один, правда, строгий и, так сказать, необычного происхождения — Иван Петрович получил его от Центрального Комитета. Я не знаю точной формулировки, но Алеша рассказывал, что в ней есть такие слова, как «бюрократический стиль руководства», «злоупотребление властью», «административные перегибы».
Вместе с выговором Иван Петрович навсегда покинул большой город на Волге, где много лет был секретарем обкома, и начал обживать свою четырехкомнатную квартиру на улице Горького, которая все эти годы стояла пустой.
В Москве Ивана Петровича назначили заместителем министра. Но это его вдвойне не устроило: во-первых, он был заместитель, а не министр, а во-вторых, не союзного министерства, а республиканского.
Именно в это время и познакомилась я с деверем поближе. Тогда он еще не был таким суетливым говоруном — ходил медленно, не говорил — произносил, не бранился, а загадочно усмехался.
Однажды после крутого разговора с министром Иван Петрович поторопился подать заявление о невозможности совместной работы.
Иван Петрович был уверен, что его вызовут, попросят забрать заявление, — он очень хотел этого.
Вечером он сидел с Алешей, и я слышала, как несколько раз произнес:
— Я им продиктую условия. Скажу — или так, или уж позвольте решать мне самому…
Но его не вызывали, не уговаривали, и Иван Петрович очутился в каком-то главном управлении, но не начальником, а заместителем, оттуда он перекочевал в трест и опять заместителем.
Поняв, очевидно, что он теперь попал, как он сам говорил, «в третий эшелон», Иван Петрович начал развивать свою «теорию заместителей».
— Первое лицо больше для президиумов собраний предназначено. Знаю, сам сиживал. До того от этого почета обалдел, что однажды, сидя в театре на представлении какой-то пьески из современной колхозной жизни, вдруг подумал: «А почему, собственно, я в зале сижу, а не на сцене?» В каждом деле главное — заместитель. Если хотите, это даже удобно — в тени меньше потеешь.
Но и в тресте Иван Петрович задержался ненадолго.
Как-то Алеша сказал:
— А я и не знал, что Иван кандидат наук!
— Каких наук? — спросила я.
— Кажется, экономических…
— Когда же он успел?
— Говорит, когда в обкоме работал;
— Ну и что?
— Ничего… Звонил сегодня. Ухожу, говорит, на научную работу…
Сейчас Иван Петрович заместитель заведующего сектором научно-исследовательского института.
Нельзя сказать, что Иван Петрович наш частый гость, но раза два в месяц он к Алеше все же заходит. Мы у него дома были один лишь раз, вскоре после его возвращения с берегов Волги. По странной привычке Иван Петрович везде появляется один, без жены. Даже в театр Иван Петрович жену не берет. Поэтому я его супругу видела только однажды, когда была у них. Она маленькая, худенькая, совсем не под стать ему — высокому, представительному, все еще красивому. Я не знаю, что было в ее глазах, когда мы появились, — недоумение, удивление, но радости не было, это я увидела сразу.
Когда мы пришли, на ней было очень миленькое серенькое платье из мягкой шерсти. Оно шло к ней, молодило ее. Она извинилась за свой наряд, ушла и появилась в длинном платье из парчи. По голубому полю были раскиданы большие красные розы. В ушах светились золотые серьги с крупными изумрудами. На плечах лежал белоснежный пуховый шарф. Я в своем черном шерстяном платье сразу превратилась в Золушку.
Пока мы сидели за столом, Мария Захаровна все время молчала, только несколько раз равнодушно повторила:
— Кушайте, пожалуйста.
Иван Петрович обращался больше к Алеше. Жене он ничего не говорил. Он протягивал руку, и она, точно угадывая его желание, подавала ему графин с водкой, тарелку с ветчиной, горчицу.
Их слаженная, четкая работа чем-то напоминала мне операционную: там сестра с таким же пониманием и так же точно подает хирургу инструменты.
Мария Захаровна ошиблась только раз. Она подала кетовую икру, Иван Петрович нахмурился и сказал:
— Я просил маслины!
Мария Захаровна подала маслины и рукавом опрокинула фужер с красным вином. Иван Петрович ничего не сказал, он даже улыбнулся, но ничего хорошего Марии Захаровне эта улыбка, видно, не предвещала, и хозяйка совсем сникла, даже забыла повторять: «Кушайте, пожалуйста». После обеда брат увел Алешу к себе в комнату:
— Пойдем в кабинет, поговорим…
Мария Захаровна долго молчала, да и я, признаться, вела себя не слишком учтиво, сказав сразу после ухода мужчин: «Не пора ли нам домой?»
И вдруг она посмотрела на меня исподлобья и без тени улыбки, совершенно серьезно заявила:
— А вы знаете, сейчас очень много хоронят живых…
От столь неожиданного сообщения я растерялась:
— Не может быть… Зачем?.. Кому это надо?
— Никому не надо, — сурово отрезала моя собеседница. — Ошибка… Медицинская ошибка.