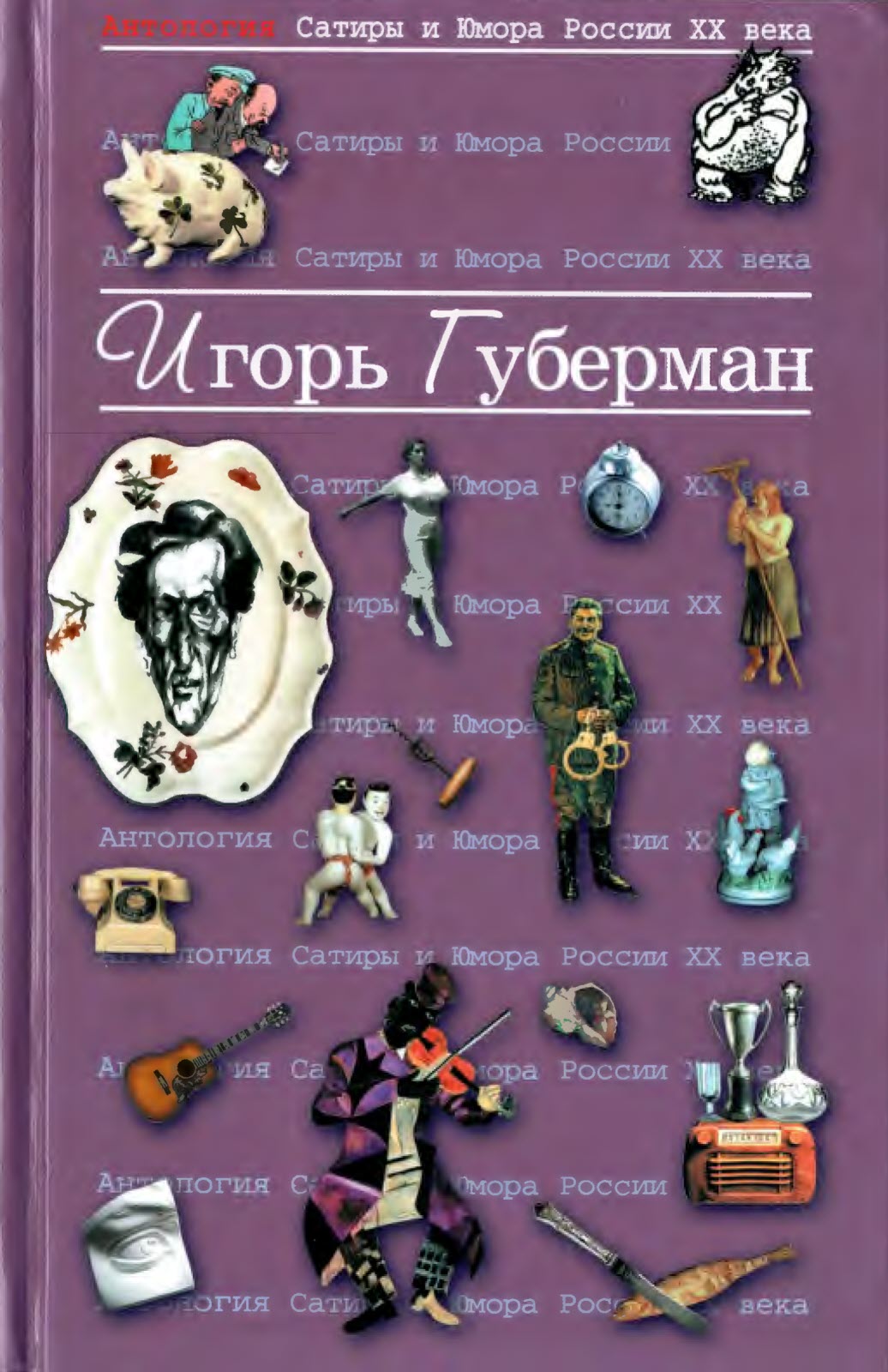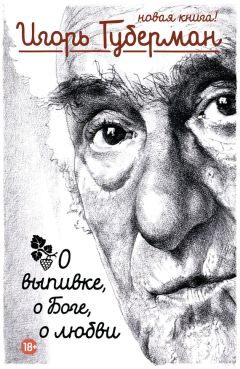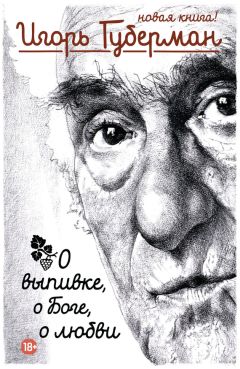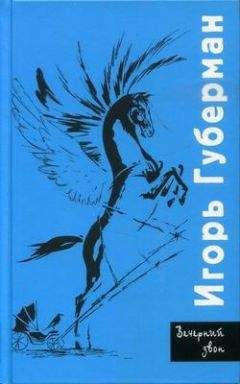притворялся человеком. Первая ипостась — пожилой, но крепкий моложавый мужчина с солдатской выправкой и дружелюбно грубой простотой в обращении. Нет-нет, вторая голова, вторая ипостась тут подходила больше: серьезный, сдержанный, высоколобый. Приветлив, собран, деловит. А вот про обаяние — тут даже Шварц не догадался. И я еще одно из пьесы вспомнил, и сразу на душе у меня сильно полегчало. Когда после убийства дракона — помните? — сын бургомистра учинил такие же порядки и возвратившийся рыцарь Ланцелот стыдит его, мерзавец говорит ему в сгущенном виде то, что говорили все на Нюрнбергском процессе: «Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили». На что рыцарь Ланцелот произносит поразительно точные слова: «Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?»
О, как меня ругал и поносил за мою тупость Тоник Эйдельман! И слово «чистоплюй» было в этом наборе самым приличным. Его о стольком можно было расспросить, горевал Тоник. Ведь это из его штаба исходил приказ не брать евреев в партизанские отряды! Он не признался бы, вяло защищался я. Но что-нибудь сказал бы все равно, настаивал неистовый историк Тоник. А что он говорил о Сталине? Он с ним работал ведь совсем поблизости пятнадцать лет! Один лишь эпизод я помнил: Пономаренко с легким хвастовством сказал, что это чушь, что Сталину нельзя было возражать, что он лично ему возражал по поводу какого-то школьного учебника, и был выслушан, и был одобрен. «Какого именно учебника?» — взвился историк Тоник. Я не помнил и пожал плечами. «Знаешь, ты кто?» — злобно спросил Тоник. Сходи сам, огрызнулся я. Да мне как раз он ничего не расскажет, а тебе, случайному и темному… Идиоту, помог я Тонику с формулировкой. И вдруг обоим нам явились в голову одновременно дивные слова Рабле, и мы их начали говорить нечаянным дуэтом: Бог посылает штаны тому, кто лишен задницы. И тут укоры исчерпались.
А много лет спустя уже в Иерусалиме я встретил третье воплощение дракона. Помните, какова была у дракона третья голова, еще одна его маска? Крошечный, мертвенно-бледный, очень пожилой человечек.
В газете как-то прочитал я, что в Израиль к нам приехал выступать бывший член ЦК Коммунистической партии, бывший первый секретарь ЦК Украины (и еще много чего бывший член и вождь) Петр Ефимович Шелест, личность некогда чрезвычайно известная. Господи, подумал я, как хорошо, что умерли уже и Риббентроп, и Геббельс, никуда не ездит дряхлый Каганович (был он еще жив тогда), ведь их нам тоже запросто могли бы привезти лишенные намека на брезгливость бесчисленные наши импресарио несметных гастролеров. Где же наше коллективное чувство собственного достоинства? Неужели мы пойдем смотреть на этого монстра и поддержим его своим любопытством и платой за заведомо лживый треп? Презрение абсолютно пустых залов должно быть наградой и ему, и тем, кто его бессовестно привез. Но тут тень Тоника мелькнула передо мной, и далее о нашем коллективном чувстве чести я размышлял, уже влезая в выходные брюки. Тороплюсь сказать, что залы были полным-полны, прокатная контора не ошиблась: сотням винницких, и киевских, и черновицких, и так далее евреев показалось лестным и любопытным повидать за пять шекелей некогда всевластного в республике человека. Тем более что он приехал с темой, с точки зрения рекламы безупречной: «Как я снимал Хрущева». Рядом с ним сидели за столом на сцене (очень уж хотелось прокатиться, очевидно) дочь Хрущева и его зять Аджубей. Их чувство собственного достоинства, не говоря уже об уважении к памяти отца и столь любимого тестя, я права не имею обсуждать. Словом, все мы в этом смысле весьма достойную образовали компанию.
Я раньше чуть приехал (мне приятели сказали, что их раньше привезут), и со мной минут сорок приветливо поговорил крошечный, мертвенно-бледный, очень пожилой человечек. Я уже готов был услышать. сколько он за свою жизнь сделал добра, и я вопросы подготовил вперебивку, только стоял передо мной такой пустой и постный, такой ничего не помнивший и пылью запорошенный дряхлец, что глупо даже было бы пытаться как-то оживить его, расшевелить, хотя бы разозлить. Тем более что рядом с ним стояла ветхая старушка, верная подруга его дней, и жалко улыбалась, и все время порывалась мне подробней рассказать, как несправедливо и неправедно Петра Ефимовича отлучили от власти, и как пятнадцать лет после этого никто из многочисленных былых друзей не позвонил ни разу. Только позванивал зубной их врач — кстати, еврей, сказала она, и оба приветливо заулыбались. О, сколько знал я об отношении этого трухлявого старика к евреям! — но что из того? — не обличать же мне это пустое место, и зачем? Единственный лишь раз он распахнулся на секунду: я спросил, вернется ли он к власти, если позовут. Он головою закивал согласно: дескать, силы еще есть и есть идеи, он бы очень пригодился. Тогда скажите, я его спросил, что помогло бы сейчас решающим образом всей стране, не знает ли он ключевое какое-нибудь средство? Да-да, сказал старик, он знает безусловно. Я всем собой изображал почтительный вопрос (ах. Тоник был бы мной доволен!), и блеснули на меня вдруг мутные склеротические глазки, проступил румянец возбуждения, решительно ощерился золотозубый вялый рот.
— Дисциплина! — твердо выговорил дряхлый старик. И повторил: — Дисциплина! — И опять потух.
И так мне стало омерзительно, что больше ничего я спрашивать не стал.
А на пустом его и вялом выступлении текла убогая жвачка из старых газет, и он ни слова интересного не произнес, хотя единожды опять бедняга прокололся по нечаянности. Ему наивный какой-то человек прислал записку: как, дескать, осмелился такой известнейший антисемит приехать в Израиль. И, тепло улыбнувшись всему залу, сказал старик:
— Нет, я всегда очень любил… — и он запнулся так отчаянно, что ясно стало, сколь ругательным и оскорбительным ощущает он слово «еврей». Но вмиг ему шаблон привычный подвернулся, и сказал он: «Лиц еврейской национальности». И все мы засмеялись снисходительно. Так попусту и с тем же пакостным осадком на душе прошла моя встреча с третьей головой.
А те из этой своры, кто помоложе, ныне стали бизнесменами-коммерсантами и вовсю торгуют крадеными кирпичами из фундамента империи, которой лишь вчера в преданности жарко клялись. Все, что успели своровать и прихватить, — тем и торгуют. А для тех, кто с ними дело имеет, я простую очень байку изложу, ее мне некогда Саша Городницкий рассказал. Ведь он еще и геофизик, как известно. много плавал по морям и океанам, и судьба однажды занесла