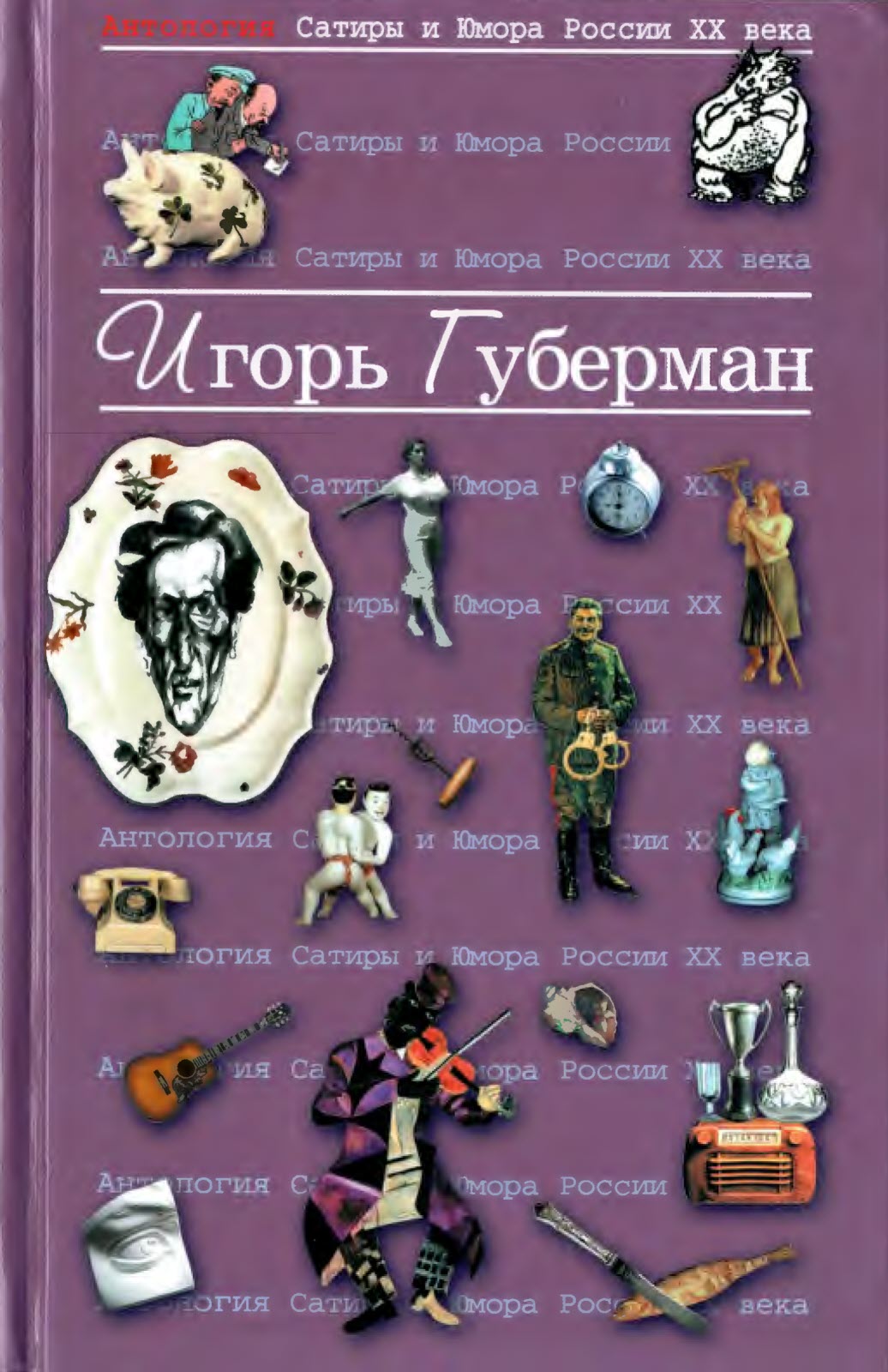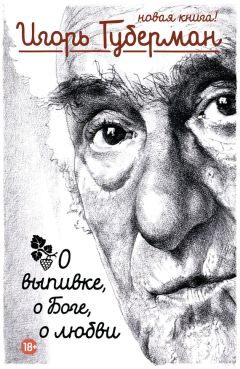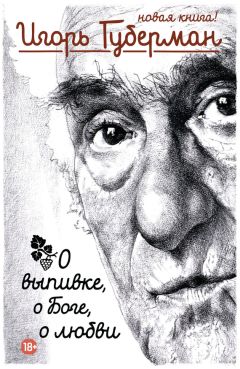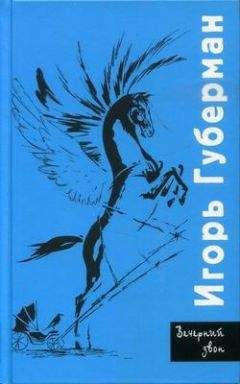его в Японию. В каком-то городке ученым разрешили сойти на берег; погуляли они там, а после скинулись, набрав валюты на бутылку водки. И мирно распивали ее возле стойки в портовой забегаловке случайной. И подошел к ним пожилой японец с мятым пергаментным лицом и, на японский лад слова коверкая, сказал на русском языке, что вот услышал звуки русской речи и хотел бы познакомиться, поскольку некогда в Россию ездил торговать и больше не поедет никогда. И он такое сделал ударение на слове «никогда», что Саша машинально у него спросил: а почему?
Японец чуть порылся в своем явно скудном словаре и лучезарно улыбнулся, и сказал:
— Наебали!
Не знаю благодатней и бездонней
дарованных как Божеская милость
двух узких и беспомощных ладоней,
в которые судьба моя вместилась.
Уже вот-вот к моим ногам
подвалит ворох ассигнаций,
ибо дерьмо во сне — к деньгам,
а мне большие говны снятся.
я не искал чинов и званий,
но очень часто, слава богу,
тоску несбывшихся желаний
менял на сбывшихся изжогу.
Вчера взяла меня депрессия,
напав как тать из-за угла:
завесы серые развесила
и мысли черные зажгла.
А я не гнал мерзавку подлую,
я весь сиял, ее маня,
и с разобиженною мордою
она покинула меня.
Я в зеркале вчера себя увидел
и кратко побеседовал с собой;
остался каждый в тягостной обиде,
что пакостно кривляется другой.
Это был не роман,
это был поебок,
было нежно, тепло, молчаливо,
и, оттуда катясь,
говорил колобок:
до свиданья, спасибо, счастливо.
На любое идейное знамя,
даже лютым соблазном томим,
я смотрю недоверчиво, зная,
сколько мрази ютится под ним.
Слежу без испуга и дрожи
российских событий пунктир:
свобода играет, как дрожжи,
подкинутые в сортир.
Надежды огненный отвар
в душе кипит и пламенеет:
еврей, имеющий товар,
бодрей того, кто не имеет.
Вижу лица или слышу голоса —
вспоминаются сибирские леса,
где встречались ядовитые грибы —
я грущу от их несбывшейся судьбы.
Уже мы в гулянии пылком
участие примем едва ли,
другие садятся к бутылкам,
которые мы открывали.
Еврей опасен за пределом
занятий, силы отнимающих;
когда еврей не занят делом,
он занят счастьем окружающих.
Казенные письма давно
я рву, ни секунды не тратя:
они ведь меня все равно
потом наебут в результате.
Покуда мы свои выводим трели.
нас давит и коверкает судьба,
поэтому душа — нежней свирели,
а пьешь — как водосточная труба.
Я искренне люблю цивилизацию
и все ее прощаю непотребства
за свет, автомобиль, канализацию
и противозачаточные средства.
Мы столько по жизни мотались,
что вспомнишь — и каплет слеза,
из органов секса остались
у нас уже только глаза.
Есть люди — пламенно и бурно
добро спешат они творить,
но почему-то пахнут дурно
их бескорыстие и прыть.
Высок успех и звучно имя,
мои черты теперь суровы,
лицо значительно, как вымя
у отелившейся коровы.
Нам не светит благодать
с ленью, отдыхом и песнями:
детям надо помогать
до ухода их на пенсии.
Не сдули ветры и года
ни прыть мою, ни стать,
и кое-где я хоть куда,
но где — устал искать.
Всюду ткут в уюте спален
новых жизней гобелен,
только мрачен и печален
чуждый чарам чахлый член.
Заметь, Господь, что я не охал
и не швырял проклятий камни,
когда Ты так меня мудохал,
что стыдно было за Тебя мне.
В одной ученой мысли ловкой
открылась мне блаженства
бездна:
спиртное малой дозировкой
в любых количествах полезно.
На старости я сызнова живу,
блаженствуя
во взлетах и падениях,
но жалко, что уже не наяву,
а в бурных и бесплотных
сновидениях.
Сегодня многие хотят
беседовать со мной,
они хвалой меня коптят,
как окорок свиной.
А все же я себе союзник
и вечно буду таковым,
поскольку сам себе соузник
по всем распискам долговым.