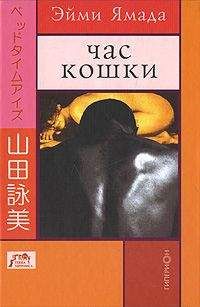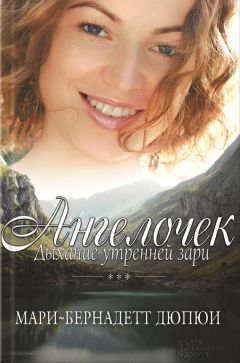Красный фрак дирижера неаполитанского оркестра развевался узкими фалдочками в синеватой ресторанной мгле.
Об этих ночах Брюсов писал:
Словно в огненном дыме и лица, и вещи…
Как хорош озаренный, бессонный хрусталь.
За плечом у тебя чей-то призрак зловещий…
Нам иногда были коротки целые ночи. Тушили люстры, бра, церковный мрак залегал в сводах зала. Нужно было уходить. Куда? Домой? Это слово для нас звучало язвительной шуткой».
Впрочем, повторюсь, что насчет Брюсова Нина ошибалась, и то, что она ошибается, Нина поймет очень не скоро. Но на свой счет она ставила жуткий и точный диагноз: «Вследствие врожденной психической дегенерации (один врач сказал мне: „…такие экземпляры родятся в перекультуренных семьях“) меня тянуло к наркозам всякого рода буквально с малых лет.
В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным терпким вином, где, как жемчужина Клеопатры, была растворена его душа. И сказал:
– Пей!
Я выпила и отравилась на семь лет…»
Вновь тот же кубок с влагой черной,
Вновь кубок с влагой огневой!
Любовь, противник необорный,
Я узнаю твой кубок черный
И меч, взнесенный над толпой.
О, дай припасть устами к краю
Бокала смертного вина!
Я бросил щит, я уступаю, —
Лишь дай, припав губами к краю,
Огонь отравы пить до дна!
Я знаю, меч меня не минет,
И кубок твой беру, спеша.
Скорей! Скорей! Пусть пламя хлынет,
И крик восторга в небо кинет
Моя сожженная душа!
Если отвлечься от «символизма», то встречаться любовники стали в самой обыкновенной гостинице под названием «Русь». Брюсов снял там номер, маленькую узенькую комнатку, куда приводил Нину. Пошловато, конечно, но ведь это как подать… Можно стыдиться того, что некуда тебе больше привести женщину для того, чтобы залечь с нею в постель, а можно это таки-и-ми декорациями обставить, на таки-и-е котурны возвести! Брюсов умел делать это совершенно классически:
Как нимб, любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб, любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,
И стыд, и гибель – за тебя!
Или вот так:
Я знаю, что тайные руны
Решили: быть близкими нам,
И в теле моем полнозвучные струны
Ответствуют тайно желаний твоих потаенным струнам.
В пределах безмерного мира
Нас сблизила темная власть,
И наши два тела – единая лира,
Которой коснулась дрожащими пальцами грозная страсть.
Я вздрогну – ответишь ты дрожью,
Я вскрикну – ты стонешь в ответ.
Я чту в нашей слитности истину Божью,
Сцепляя объятья, покорно приемлю нездешний ответ.
И в миг, как вершающий трепет
Мученьем сжимает мне грудь,
Я слышу твой радостно сдавленный лепет:
– Все кончено, кончено, милый, мой милый, останься, побудь!
Постепенно для Нины эти встречи, эта взаимная дрожь, это ощущение под пальцами угловатых плеч Брюсова, скольжение ее раздевающих ладоней по атласному сукну его знаменитого сюртука стали своего рода наркотиком. Она и прежде баловалась морфием и кокаином, продолжала и сейчас, потихоньку приучала к этому и своего демонического любовника, а потом уже и перестала различать, что на нее действует сильнее – его присутствие, шприц морфия или щепотка кокаина. Страсть пылала тем сильнее, чем больше было принято зелья и чем качественней оно оказывалось. От восторга бытия Нина начинала рыдать…
«В янтарно-черных прекрасных глазах зажигались золотые искры начинающего разгораться огня, от них становилось тоже тепло и приятно.
Черный сюртук, пропахший насквозь моими духами и просоленный моими слезами о «невозможном», однажды в негодовании выкинула на мороз жена его. Но, как всегда бывает в жизни, в трагедию вкрался комический элемент: она по ошибке выкинула старый, не тот!»
Да, законным супругам обоих любовников тяжко приходилось. С женой Брюсова все понятно; Сергей Кречетов ненавидел его как соперника издательского, а теперь еще и как любовника жены, «которая сейчас на каждой складке платья носила ненавистный ему дух. „От тебя слишком пахнет „Скорпионом“ и его присными“, – говорил он злобно.
Нина не обижалась, она считала мужа, с его новой любовью к актрисе Лидии Рындиной, убогим. Подумать только, он уверял, что женщина должна быть женщиной во всем! И когда Нина ехидно хихикала:
– И в глупостях? И в пристрастии к фарфоровым собачкам?
Он кивал:
– Даже и в этом. Это женственно, по крайней мере.
От «мещанства» мужа Нина бесилась. Он ее положительно (и отрицательно тоже!) не понимал! Она должна была непременно балансировать на лезвии бритвы – на которое возвел и поставил ее Брюсов. Конечно, одурманенное наркотиками сознание строило совершенно иные картины их жизни, далекие от реальности. И она искренне верила в те сцены, которые Валерий разыгрывал перед ней… а может быть, как и положено всякому актеру перед благодарной аудиторией, не просто входил в образ, но и жил в нем.
«В январе подступила к сердцу такая невыносимая тоска, что я решила умереть.
Я сказала однажды Брюсову:
– Ты будешь скучать, если я не приду к тебе больше никогда?
Он не ответил и спросил:
– А ты найдешь второй револьвер? У меня нет.
(Поверит ли кто-нибудь, что в зените своей славы, холодный, бесчувственный, математически-размеренный в жизни, Брюсов написал:
Смерть, внемли сладострастью
Смерть, внемли славоволью
Ты нетленно чиста
Сожигают любовью
Твои уста.[3]
Действительно, спустив свой хаос с цепи в те годы, ничего не желая, жаждал упиться мигом экстатической смерти.
Потом, гораздо позднее, он звал меня два раза умереть вместе, и я не могу себе простить, что в 1901 году не согласилась на это…)
– А зачем же второй?
– А ты забыла обо мне?
– Ты хочешь умереть? Ты… ты? Почему?
– Потому что я люблю тебя».
Бес его знает, Брюсова, сказал ли он это потому, что нет ничего слаще для влюбленной женщины слышать, что за нее готовы душу в ад отправить, или в самом деле в ту минуту он так чувствовал. Впрочем, Брюсов искренне верил, что для слова «любовь» нет другой рифмы, как «кровь». Это стихотворение он напишет позднее, уже после того, как расстанется с Ниной, однако его кредо «amor condiss nai ad una» – «любовь ведет нас лишь к одному» – оставалось неизменным во все периоды его жизни, любил ли он Нину Петровскую, или Надежду Львову, свою следующую жертву… именно смертельную жертву! – или кого-то другого, именно поэтому он выбрал эту строку эпиграфом для стихов, которые впервые зародились в его замыслах во время встреч с Ниной, заговорившей о револьвере.
Любовь ведет нас к одному,
Но разными путями:
Проходишь ты сквозь скорбь и тьму,
Я ослеплен лучами.
Есть путь по гребням грозных гор,
По гибельному склону.
Привел он с трона на костер
Прекрасную Дидону.
Есть темный путь, ведущий в ночь,
Во глубь, в земные недра.
На нем кто б мог тебе помочь,
Удавленница Федра?
Есть путь меж молнийных огней,
Меж ужаса и блеска,
Путь кратких, но прекрасных дней, —
Твой страшный путь, Франческа.
Лазурный, лучезарный путь
Пригрезился Джульетте.
Она могла восторг вдохнуть,
Но нет! Не жить на свете!
Любовь приводит к одному —
Вы, любящие, верьте! —
Сквозь скорбь и радость, свет и тьму, —
К блаженно-страшной смерти!
«Стремление к чему-то небывалому, невозможному на земле, тоску души, которой хочется вырваться не только из всех установленных норм жизни, но и из арифметически точного восприятия пяти чувств, – из всего того, что было его „маской строгой“ в течение трех четвертей его жизни, – носил он в себе всегда, – потом, через много лет, когда остынет в ней все, что только могло остыть, напишет Нина. – Разве не стоном звучат эти строки: