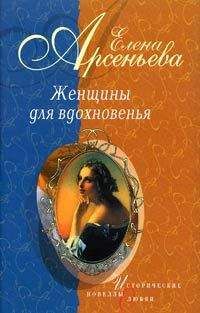– Я не ревную больше, – ответил я.
Поднявшись, она спросила меня:
– Есть ли здесь второй этаж?
– Да, комнаты в нем будут расположены так же, как и здесь.
– Будет ли он занят?
– Это решать вам.
– Надобно принять со всей откровенностью положение, в которое поставила нас судьба. В глазах общества вы брат мой и действительно должны жить в одном доме со мной; и это было бы даже странно, если бы вы стали жить в другом месте. Эти покои будут ваши. Пойдемте в сад.
Сад казался зеленым ковром с корзиной цветов. Мы обошли его два-три раза по песчаной аллее, что опоясывала его. Потом Полина нарвала цветов.
– Посмотрите на эти бедные розы, – сказала она, возвратившись, – как они бледны и почти не пахнут. Не правда ли, они похожи на изгнанников, которые томятся по своей родине? Мне кажется, они также имеют понятие о том, что называется отечеством. Они способны чувствовать и страдать.
– Вы ошибаетесь, – ответил я, – эти цветы родились в Англии; им подходят здешние воздух и атмосфера; это дети туманов, а не росы, и солнце более жаркое сожгло бы их. Впрочем, они созданы для того, чтобы служить украшением белокурых локонов белокожих дочерей севера. Для вас, для ваших черных волос нужны те пламенные розы, которые цветут в Испании. Мы отправимся за ними туда, когда вы захотите.
Полина печально улыбнулась.
– Да, в Испанию… в Швейцарию… в Италию… куда угодно… но только не во Францию…
Потом она продолжила ходить, не говоря больше ни слова и бездумно обрывая листки роз по дороге.
– Но неужели вы навсегда потеряли надежду туда вернуться? – спросил я.
– Разве я не умерла?
– Но под другим именем…
– Тогда надо изменить и внешность.
– Итак, это страшная тайна?
– Она словно медаль, у которой есть две стороны: одна – яд, другая – эшафот. Я должна открыть вам все, и чем скорее, тем лучше. Но расскажите мне прежде, какое чудо Провидения привело вас ко мне?
Мы сели на скамью под величественным платаном, крона которого закрывала часть сада. Я начал свой рассказ от самого приезда в Трувиль. Поведал Полине о том, как попал в бурю; как меня выбросило на берег; как в поисках убежища набрел на развалины аббатства; как, проснувшись от странного шума, увидел человека, выходившего из подземелья; как этот человек зарыл что-то под камнем; и как с тех пор я твердо решил проникнуть в эту тайну. Потом я рассказал ей о путешествии в Див, роковом для меня, об отчаянном намерении увидеть ее еще раз; об удивлении своем и радости, которые я испытал при виде другой женщины на смертном одре; наконец, о своем ночном путешествии, о ключе под камнем, о входе в подземелье, о счастье и радости своей, когда нашел ее. Я рассказал ей обо всем этом, ничего не говоря о любви, но она звучала в каждом произнесенном мною слове. И в то время, когда я говорил, я испытывал счастье и был вознагражден. Я почувствовал, что этот страстный рассказ передал ей мое волнение, и что некоторые слова проникли тайно в ее сердце. Когда я окончил повествование, она взяла мою руку и пожала ее. Некоторое время Полина молча смотрела на меня с выражением ангельской кротости и признательности. Потом заговорила:
– Дайте мне клятву, – сказала она.
– Какую? Говорите.
– Поклянитесь тем, что для вас священно, что вы не откроете никому моей тайны, по крайней мере до тех пор, пока я, мать моя или граф будем живы.
– Клянусь честью! – ответил я.
– Так слушайте же.
– Нет надобности говорить вам о моей семье, вы ее знаете: это моя мать, несколько дальних родственников да и все, пожалуй. Я имела порядочное состояние…
– Увы! – прервал я. – И почему только вы не были бедны?
– Отец мой, – продолжала Полина, делая вид, что не заметила моего восклицания, – оставил после своей смерти сорок тысяч ливров ежегодного дохода. Кроме меня, других наследников не было, и я вступила в свет как богатая наследница.
– Вы забываете, – сказал я, – о красоте своей и блестящем воспитании.
– Вы беспрестанно перебиваете меня и не даете продолжать, – улыбнулась Полина.
– О! Вы не можете рассказать так, как я, о том впечатлении, которое вы произвели на всех в свете; эта часть истории известна мне лучше. Вы, сами о том не подозревая, были королевой всех балов, царицей в лавровом венке, невидимом для одних только ваших глаз. Тогда я впервые встретил вас. Это случилось у княгини Бел… Все, кто только был знаменит и известен, собрались у этой прекрасной изгнанницы Милана. Там пели, и виртуозы наших гостиных подходили поочередно к фортепиано. Все, чего только может достичь музыка и пение, соединилось вместе, чтобы восхитить эту толпу дилетантов, удивляющуюся всегда, встречая в свете то совершенство исполнения, которого мы требуем и так редко находим в театре. Потом кто-то начал говорить о вас и произнес ваше имя; уже тогда сердце мое забилось в волнении. Княгиня встала, взяла вас за руку и повела, словно жертву, к этому алтарю мелодии. Скажите мне, отчего, когда я увидел смущение ваше, чувство страха охватило меня, как будто вы были моей сестрой, хотя я знал вас не более четверти часа? О! Я дрожал, может быть, сильнее, чем вы, и, верно, вы были далеки от мысли, что в этой толпе есть сердце, родное вашему, которое колотилось от страха и восхищалось вашим торжеством. Уста ваши открылись, и мы услышали первые звуки голоса еще дрожавшего и неверного. Но вскоре ноты стали чистыми и звучными; глаза ваши устремились к небу. Толпа, окружавшая вас, сомкнулась, и не знаю даже, услышали ли вы ее рукоплескания; душа ваша, казалось, парила над всем этим где-то в вышине. Это была ария Беллини, мелодичная и простая, однако же полная печали, какую мог создать только он один. Я не рукоплескал вам – я плакал. Вы возвратились на свое место; похвалы лились на вас ручьем; я один не смел подойти к вам; я сел так, чтобы видеть вас беспрестанно. Вечер продолжил свое течение. Звучала музыка, потрясая восхищенных слушателей своей гармонией. Но я ее не слышал. С тех пор как вы оставили фортепиано, все чувства мои сосредоточились на одном. Я смотрел на вас. Помните ли вы этот вечер?
– Да, я припоминаю его, – кивнула Полина.
– Потом, – продолжал я, забыв о том, что прерываю ее рассказ, – потом я услышал в другой раз не эту самую арию, но ее народный вариант. Это было в Сицилии, вечером одного из тех дней, которые бывают только в Италии и Греции. Солнце едва скрылось за Джирджентами, древним Агригентом. Я сидел возле дороги. По левую сторону от меня в вечернем сумраке начинал теряться морской берег, усеянный развалинами, среди которых возвышались три храма; вдали простиралось море, неподвижное и блестящее как серебряное зеркало. По правую сторону от меня на золотом фоне выделялись резкие контуры города, как бы сошедшего с одной из картин мастеров первой флорентийской школы, которые приписывают Гадди и которые помечены именами Чимабуэ или Джотто. Рядом со мной прошла молодая девушка: она возвращалась от фонтана и несла на голове одну из столь красивых древних амфор. Она напевала ту самую песенку, о которой я говорил вам. О! Если бы вы знали, какое впечатление произвела на меня эта песенка. Я закрыл глаза и склонил голову на грудь: море, берег, храмы – все исчезло, даже эта итальянская девушка, которая, как волшебница, вернула меня на три года назад и перенесла в салон княгини Бел… Тогда я опять увидел вас, опять услышал ваш голос и смотрел на вас с восторгом. Но вдруг глубокая печаль овладела мной, потому что в то время вы не были уже молодой девушкой, которую я так любил и которую называли Полиной Мельен; вы стали графиней Безеваль… Увы!.. Увы!..