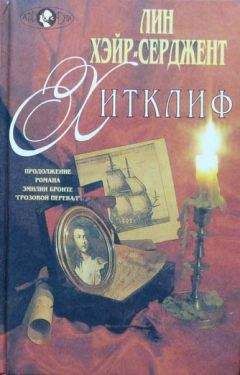обещанные подарки. Мальчику было четырнадцать лет, но, когда он извлек из отцовского кафтана обломки того, что было скрипкой, он громко расплакался, а Кэти, когда узнала, что мистер Эрншо, покуда возился с найденышем, потерял ее хлыстик, принялась со зла корчить рожи и плеваться; за свои старания она получила от отца затрещину, которая должна была научить ее более приличным манерам. Ни брат, ни сестра ни за что не хотели лечь в одну кровать с незнакомым мальчиком или хотя бы пустить его в свою комнату; я тоже оказалась не разумней и уложила его на площадке лестницы в надежде, что, может быть, к утру он уйдет. Случайно ли, или заслышав его голос, найденыш приполз к дверям мистера Эрншо, и там хозяин наткнулся на него, когда выходил из комнаты. Пошли расспросы, как он тут очутился. Мне пришлось сознаться, и в награду за трусость и бессердечие меня выслали из дома.
Так Хитклиф вступил в семью. Когда я через несколько дней вернулась к господам (я не считала, что изгнана навсегда), мне сказали, что мальчика окрестили Хитклифом: это было имя их сына, который умер в младенчестве, и так оно с тех пор и служило найденышу и за имя и за фамилию. Мисс Кэти и Хитклиф были теперь неразлучны, но Хиндли его ненавидел. И, сказать по правде, я тоже; мы его мучили и обходились с ним прямо-таки бессовестно, потому что я была неразумна и не сознавала своей неправоты, а госпожа ни разу ни одним словечком не вступилась за приемыша, когда его обижали у нее на глазах.
Он казался тупым, терпеливым ребенком, привыкшим, вероятно, к дурному обращению. Глазом не моргнув, не уронив слезинки, переносил он побои от руки Хиндли, а когда я щипалась, он, бывало, только затаит дыхание и шире раскроет глаза, будто это он сам нечаянно укололся и некого винить. Оттого, что мальчик был так терпелив, старый Эрншо приходил в ярость, когда узнавал, что Хиндли преследует «бедного сиротку», как он называл приемыша. Он странно пристрастился к Хитклифу, верил каждому его слову (тот, надо сказать, жаловался редко и по большей части справедливо) и баловал его куда больше, чем Кэти, слишком шаловливую и своенравную, чтобы стать любимицей семьи. Таким образом мальчик с самого начала внес в дом дух раздора; а когда не стало миссис Эрншо (она не прожила и двух лет после появления у нас найденыша), молодой господин научился видеть в своем отце скорее притеснителя, чем друга, а в Хитклифе — узурпатора, отнявшего у него родительскую любовь и посягавшего на его права; и он все больше ожесточался, размышляя о своих обидах. Я ему сперва сочувствовала, но когда дети захворали корью и мне пришлось ухаживать за ними и сразу легли на меня все женские заботы, мои мысли приняли другой поворот. Хитклиф хворал очень тяжко, и в самый разгар болезни, когда ему становилось особенно худо, он не отпускал меня от своей постели, мне думается, он чувствовал, что я много делаю для него, но не догадывался, что делаю я это не по доброй воле. Как бы там ни было, но я должна сознаться, что он был самым спокойным ребенком, за каким когда-либо приходилось ухаживать сиделке. Сравнивая его с теми двумя, я научилась смотреть на него не так пристрастно. Кэти с братом прямо замучили меня, а этот болел безропотно, как ягненок, хотя не кротость, а черствость заставляла его причинять так мало хлопот.
Он выкарабкался, и доктор утверждал, что это было в значительной мере моею заслугой, и хвалил меня за такой заботливый уход. Похвалы льстили моему тщеславию и смягчали мою неприязнь к существу, благодаря которому я заработала их, так что Хиндли потерял своего последнего союзника. Все же полюбить Хитклифа я не могла и часто недоумевала, что хорошего находит мой хозяин в угрюмом мальчишке; а тот, насколько я помню, не выказывал никакой благодарности за эту слабость. Он не был дерзок со своим благодетелем, он был просто бесчувственным; а ведь знал отлично свою власть над его сердцем и понимал, что ему довольно слово сказать, и весь дом будет принужден покориться его желанию. Так, например, я помню, мистер Эрншо купил однажды на ярмарке двух жеребчиков и подарил их мальчикам; каждому по лошадке. Хитклиф выбрал себе ту, что покрасивей, но она скоро охромела, и, когда мальчишка это увидел, он сказал Хиндли:
— Ты должен поменяться со мной лошадками: мне моя не нравится, а если не поменяешься, я расскажу твоему отцу, как ты меня поколотил три раза на этой неделе, и покажу ему свою руку, а она у меня и сейчас черная по плечо. — Хиндли показал ему язык и дал по уху. — Поменяйся лучше сейчас же, — настаивал Хитклиф, отбежав к воротам (разговор шел на конюшне), — ведь все равно придется; и если я расскажу об этих побоях, ты их получишь назад с процентами.
— Ступай вон, собака! — закричал Хиндли, замахнувшись на него чугунной гирей, которой пользуются, когда взвешивают картошку и сено.
— Кидай, — ответил тот, не двинувшись с места, — и тогда я расскажу, как ты хвастался, что сгонишь меня со двора, как только отец умрет, и посмотрим, не сгонят ли тут же тебя самого.
Хиндли кинул гирю и угодил Хитклифу в грудь, и тот упал, но сейчас же встал. Он был бледен и дышал с трудом; и если бы я его не удержала, он тут же побежал бы к хозяину и был бы отомщен сторицей: весь вид говорил бы за него, а кто это сделал, он не стал бы скрывать.
— Ладно, бери мою лошадку, цыган! — сказал молодой Эрншо. — И я буду молить бога, чтобы она свернула тебе шею. Бери и будь ты проклят, ты, нищий подлипала! Тяни с моего отца все, что у него есть, но только пусть он потом увидит, каков ты на деле, отродье сатаны… Бери мою лошадку, и я надеюсь, что она копытом вышибет тебе мозги!
А Хитклиф уже отвязал жеребчика и повел его в свое стойло; он шел и подгонял сзади лошадку, когда Хиндли в подкрепление своей речи дал ему подножку и, не остановившись даже посмотреть, исполнились ли его пожелания, кинулся бежать со всех ног. Я была поражена, когда увидела, как спокойно мальчик встал, отдышался и продолжал, что задумал: обменял седла и сбрую,