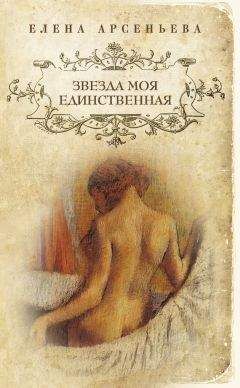Прохор Нилыч огорчился было, а потом подумал, что не одним днем человек жив. Это даже хорошо, что не шмыгнул Гриня ужом на тепленькое местечко. Пускай поверхолазничает, пускай собьет руки до кровавых мозолей – и пообтешется, и поумнеет, и в другой раз к доброму предложению по-доброму и отнесется. Своим опытным глазом Прохор Нилыч видел – из него получится хороший приказчик. Парень честный – это главное! А до чего пригож собой! Ни одна баба, а может, и дама, мимо не пройдет, особенно если Гриня не столбом стоять будет, а станет в лавку с прибаутками зазывать. А впрочем, нет… этот зазывать не будет. Этот просто глазищи свои поднимет, махнет ресницами – и птицы-голубицы-покупательницы стаей к нему полетят!
Бывают такие щеглы – ему и петь сладко не нужно, только посвистит, а сердца у тех, кто слушает, уже дрожкою дрожат. Вот таков же этот Гриня.
– Ну что ж, – сказал Павел Нилыч, – коли желаешь, пусть так и будет. Завтра же с утра мы с тобой и пойдем в Контору адресов. Без меня ты там пропадешь, время потеряешь, а толку не добьешься. А у меня человечек там есть – добрый знакомый. Живой ногой все бумаги нам сделает. Ну а потом попытаем счастья по найму. И тут попытаюсь помочь тебе, своя рука и тут есть у меня… Приятель один есть… Исаакиевский собор начали ставить, почитай, напротив царского дворца, ну, он там на подрядах работает да в свою артель народ подряжает. Как раз вчера я его видел, он сказывал, нужен-де ему работник умелый и храбрый, чтоб на высоте трудиться не трусил. Ты высоты боишься ли?
– А чего ее бояться? – безмятежно спросил Гриня.
– Ну, коли так… – усмехнулся Прохор Нилыч. – Коли так, найдем тебе работу. А пока иди вон со Степанычем, – кивнул он на появившегося очень кстати сторожа, – он тебя в пристрой сведет, там конурка есть, тебе в ней ладно будет. Только прежде – в баню, не обессудь, у нас чисто, а ты вон весь в себе да упарившись.
– За баню спасибо! – обрадовался Гриня. – Но жилье в доме вашем, в отдельной каморе… это уж великая честь… может, я где-нибудь в уголке, за печкою?
– Ты сын моего старинного друга, чего ж тебе, как таракану запечному, тесниться? – покачал головой Петр Нилыч. – Иди помойся, облик благолепный прими, да оглядись, обживись, а устал – так поспи. Наутро, еще затемно, в контору пойдем, не то потом там не протолкнешься, никакая рука не поможет! Давай, Палашенька, чтоб через час обед был, мне по делам ехать, а гостю – устраиваться и обживаться.
Гриня смотрел на него, не веря глазам, слушал, не веря ушам.
– Дай Бог вам здоровья, Петр Нилыч, – сказал он, сдерживая дрожь в голосе. – Смогу ли вам за ваше добро отплатить?
– Ничего, сочтемся, свои, чай, люди, – ответил Прохор Нилыч, слушая, как шелестит за его спиной юбкой поспешно убежавшая в дом дочка, как радостно звенит ее голос, отдающий распоряжения прислуге, и думая: «Черт с ним, с добром, главное, чтоб ты мне злом не отплатил! Уж больно ты пригож, чертова сила!»
И перекрестился с досадой, поймав себя на том, что аж дважды подряд помянул врага рода человеческого.
* * *
Всевозможные балы устраивали при дворе очень часто, но особенно царская семья любила маскарады и балы костюмированные, где все одевались по заранее названной теме. На сей раз бал решили назвать «Аладдин и волшебная лампа», и в нем впервые должны были участвовать две подрастающие великие княжны – Мария и Ольга.
Двор часто менял свое местопребывание. Весной семья проводила несколько дней на Елагином острове, чтобы избежать уличной пыли; затем переезжали в Царское Село, а на июль – в Петергофский Летний дворец и, наконец, из-за маневров, которые любил устраивать государь, прибывали в Гатчину или Ропшу с ураганом светских обязанностей: приемы, балы, даже французский театр в маленьком деревянном доме. Дети видели эту блестящую жизнь, конечно, издалека: или когда сопровождали родителей, или же в свободные часы на подоконниках, слушая доносившуюся к ним музыку.
Разумеется, самые пышные и интересные балы устраивали в Петербурге. Девочки мечтали попасть хоть на один из них, но их все успокаивали – рано, мол, подрастите немного. И вот наконец-то знаменитая Роз Колинетт, дебютировавшая в Малом Гатчинском театре и учившая их танцам, зачастила в их комнаты. Уроки проходили в детском зале. Там стоял игрушечный двухэтажный домик. В нем не было крыши, чтобы можно было без опасности зажигать лампы и подсвечники. Этот домик сестры любили больше всех остальных игрушек. Это было их царство. Олли, любившая поплакать, пряталась там, если хотела побыть одна, в то время как Мэри упражнялась на рояле, а Адини, младшая, играла. Олли начала уже отдаляться от мирка игр Адини, но еще не приблизилась к миру взрослых, к которому в свои четырнадцать лет уже почти принадлежала Мэри. И она, и Адини были жизнерадостными и веселыми, Олли же – серьезной и замкнутой. От природы уступчивая, она старалась угодить каждому, часто подвергалась насмешкам и нападкам Мэри, не умея защитить себя. Ей нравилось думать, что они с Мэри – не родные сестры. Иной раз ее тешили мысли, что подкидыш в родной семье – она, иной раз – что Мэри… Однако взгляд в зеркало развеивал эти несуразные мысли: что она, что Мэри очень походили на родителей, особенно на отца.
Когда началась подготовка к балу, Олли не удавалось долго сидеть в домике – приходили кавалеры: Алексей Фредерикс, Иосиф Россетти, братья Виельгорские – друзья Саши, то есть великого князя и цесаревича Александра Николаевича, – Иосиф, Михаил и Матвей.
Подружились с Виельгорскими три года назад, когда холера, разразившаяся в столице, удерживала императорскую семью в Петергофе. Порядки здесь были не столь церемонные, как в городе. Без шляп и перчаток великие княжны гуляли по всей территории Летнего дворца, играли на своих детских площадках, прыгали через веревку, лазали по веревочным лестницам трапеций или же через заборы. Мэри, самая неугомонная из всей компании, придумывала постоянно новые игры, в которые любили играть все, даже плаксивая Олли. По воскресеньям все обедали на молочной ферме, принадлежащей брату Саше: устраивались со всеми друзьями, которыми обзавелись в Петергофе, гофмейстерами и гувернантками за длинным столом. Порой на нем стояло до тридцати приборов! После обеда бежали на сеновал, прыгали там с балки на балку и играли в прятки в сене. Это было чудесное развлечение! Но графиня Виельгорская находила такие игры предосудительными, так же как и свободное обращение с мальчиками, которым великие княжны говорили «ты». Мэри и Олли, которые редко находили общий язык, сходились в одном: обе графиню терпеть не могли. Она была женщина необыкновенно остроумная, но ее язык жалил, как укус осы. После каждого злобного замечания она облизывала губы, точно для того, чтобы спрятать самодовольную улыбку. От нее никогда не укрывалось ничего, что можно было бы не одобрить; замечания шепотом делались мадам Барановой, которая легко поддавалась ее влиянию. Потом гувернантка начинала поучать великих княжон, к их большому неудовольствию: ведь они знали, откуда ветер дует!