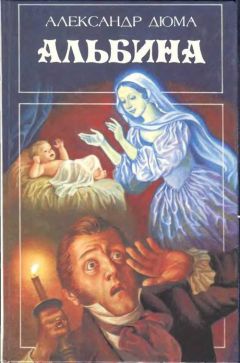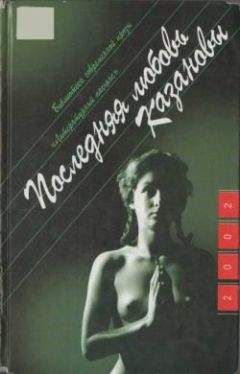— Он может даже дарить ей, когда богаче, нежели она; и в этом случае тот, кто дарит, — счастлив.
— О! Вы правы! — вскричал я. — И ни одна нежность сердца от вас не ускользает… Благодарю… благодарю.
Потом мы прошли в кабинет. На фортепиано лежали новейшие романсы г-жи Дюшанж, Лабарра и Плантада; самые модные отрывки из опер Беллини, Меербера и Россини. Полина раскрыла одну тетрадь и глубоко задумалась.
— Что с вами? — спросил я, увидев, что глаза ее остановились на одной странице и что она как будто забыла о моем присутствии.
— Странная вещь, — бормотала она, отвечая вместе и на свою мысль и на мой вопрос, — не более недели прошло, как я пела этот самый романс у графини М.; тогда у меня было семейство, имя, существование. Прошло восемь дней… и ничего этого уже нет… — Она побледнела и скорее упала, нежели села, в кресла. Можно было сказать, что она умирает. Я подошел к ней, она закрыла глаза; я понял, что она предалась своим воспоминаниям. Я сел подле нее и, положив ее голову на плечо свое, сказал:
— Бедная сестра!
Тогда она начала плакать, но на этот раз без конвульсий, без рыданий; это были слезы грустные и молчаливые; слезы, у которых не отнята известная приятность. Через минуту она открыла глаза и улыбнулась.
— Благодарю вас, — сказала она, — что вы дали мне поплакать.
— Я не ревную более, — отвечал я.
Встав, она спросила меня: есть ли здесь второй этаж?
— Да, и расположен так же, как этот.
— Будет ли он занят?
— Это вы решите.
— Надобно принять со всей откровенностью положение, в которое поставила нас судьба. В глазах света вы брат мой и, натурально, должны жить в одном со мною доме, так как нашли бы странным, если бы вы стали жить в другом месте. Эти покои будут ваши. Пойдемте в сад.
Это был зеленый ковер с куртиной из цветов. Мы обошли его два или три раза но песчаной аллее, которая опоясывала его вокруг. Потом Полина ступила на лужайку и набрала цветов.
— Посмотрите на эти бедные розы, — сказала она, возвратившись, — как они бледны и почти без запаха. Не правда ли, что они имеют вид изгнанников, которые томятся по своей родине? Мне кажется, они также имеют понятие о том, что называется отечеством, и, страдая, имеют предмет своего страдания.
— Вы ошибаетесь, — сказал я, — эти цветы здесь родились; здешний воздух, атмосфера им подходят; это дети туманов, а не росы, и солнце более пламенное сожгло бы их. Впрочем, они созданы для украшения белокурых волос и гармонии с матовым челом дочерей севера. Для вас, для ваших черных волос нужны те пламенные розы, которые цветут в Испании. Мы поедем туда искать их, когда захотите.
Полина печально улыбнулась.
— Да, — сказала она, — в Испанию… в Швейцарию… в Италию… куда угодно… исключая Францию… — Потом она продолжала ходить, не говоря более ни слова и обрывая машинально лепестки роз по дороге.
— Но неужели вы навсегда потеряли надежду туда возвратиться? — сказал я.
— Разве я не умерла?
— Но переменив имя…
— Надобно переменить и лицо.
— Итак, это ужасная тайна?
— Это медаль с двумя сторонами, у которой с одной стороны — яд, а с другой — эшафот. Я должна открыть вам все, и чем скорее, тем лучше. Но расскажите мне прежде, каким чудом Провидения вы явились ко мне?
Мы сели на скамье под величественным платаном, который вершиной своей закрывал часть сада. Я начал свою повесть с самого приезда в Трувиль. Рассказал ей, как захвачен был бурей и выброшен на берег; как, отыскивая убежище, набрел на развалины аббатства; как, будучи пробужден от сна шумом двери, увидел человека, выходившего из подземелья; как этот человек зарыл что-то под камень и как я усомнился с тех пор в тайне, в которую решился проникнуть. Потом рассказал ей о путешествии моем в Див и о роковой новости, там полученной; об отчаянном намерении увидеть ее еще один раз; об удивлении своем и радости, когда увидел под смертным покрывалом другую женщину; наконец, о ночном путешествии своем, о ключе под камнем, о входе в подземелье, о счастье и радости своей, когда нашел ее. Я рассказал ей все это с тем состоянием души, которое, не говоря ничего о любви, заставляет ее звучать в каждом произносимом слове. И в то время, когда говорил, я был счастлив и вознагражден. Я видел, что этот страстный рассказ передал ей мое волнение и что некоторые из слов моих проникли тайно в ее сердце. Когда я кончил, она взяла мою руку, пожала ее, не говоря ни слова, и посмотрела на меня с чувством ангельской признательности. Потом, прервав молчание, сказала:
— Дайте мне клятву.
— Какую? Говорите.
— Поклянитесь мне всем для вас священнейшим, что вы не откроете никому в свете моей тайны, по крайней мере до тех пор, пока я, мать моя или граф будем живы.
— Клянусь честью! — отвечал я.
— Теперь слушайте.
— Нет надобности говорить вам о своей фамилии, вы ее знаете: мать моя, потом несколько дальних родственников, вот и все. Я имела порядочное состояние…
— Увы! — прервал я. — Зачем вы не были бедны?
— Отец мой, — продолжала Полина, не показывая, что она заметила чувство, вызвавшее у меня восклицание, — оставил по смерти своей сорок тысяч ливров ежегодного дохода. Кроме меня, не было других детей, и я. вступила в свет с именем богатой наследницы.
— Вы забываете, — сказал я, — о красоте своей, соединенной с блестящим воспитанием.
— Вы беспрестанно перебиваете меня и не даете продолжать, — отвечала мне, улыбаясь, Полина.
— О! Вы не можете рассказать, как я, о том действии, которое произвели вы в свете; эта часть истории известна мне лучше, нежели вам. Вы были, не подозревая сами, царицей всех балов, царицей с почетным венком, невидимым для одних только ваших глаз. Тогда-то я увидел вас. В первый раз это было у княгини Бел… Все, что только было знаменитого и известного, собралось у этой прекрасной изгнанницы Милана. Там пели, и виртуозы наших гостиных подходили поочередно к фортепиано. Все, чего только могут достигнуть музыка и пение, соединилось, чтобы восхитить эту толпу дилетантов, удивляющуюся всегда, встречая в свете то совершенство в исполнении, которого мы требуем и находим так редко в театре. Потом кто-то начал говорить о вас и произнес ваше имя. Отчего сердце мое забилось от этого имени, произнесенного в первый раз при мне? Княгиня встала, взяла вас за руку и повела почти как жертву к этому алтарю мелодии. Скажите мне еще, отчего, когда я увидел смущение ваше, чувство страха охватило меня, как будто вы были моей сестрою, хотя я знал вас не более четверти часа? О! Я дрожал, может быть, более, нежели вы, и, верно, вы были далеки от мысли, что в этой толпе есть сердце, родное вашему, которое билось вашим страхом и восхищалось вашим торжеством. Ротик ваш открылся, и мы услышали первые звуки голоса, еще дрожащего и неверного. Но вскоре ноты сделались чистыми и звучными; глаза ваши поднялись от земли и устремились к небу. Толпа, окружавшая вас, рассеялась, и не знаю даже, достигли ли вашего слуха ее рукоплескания, душа ваша, казалось, парила над нею. Это была ария Беллини, мелодичная и простая, однако ж полная слез, какую мог создать только он.