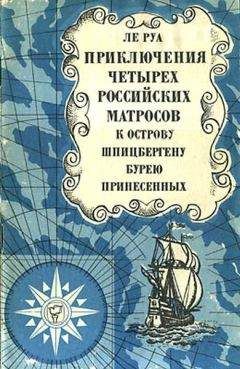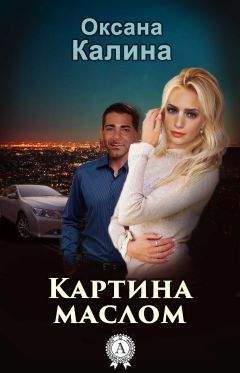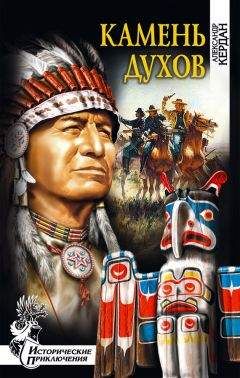Всюду ощущалось сильное напряжение, напряжение, свойственное переполненным энергией людям, готовящимся к походу. Селение уже не выглядело как место обитания мирной, процветающей общины, затерянной в горах и ожидающей, пока мир постучится в их ворота. Оно походило на костер, разбрасывающий снопы искр, когда в него подбрасывают толстые сосновые сучья. Эпона отсутствовала не так долго, но за это время кельты стали мыслить по-новому и смотреть в новых направлениях.
Сидя в седле, Эпона нагнулась.
– Чем вызваны все эти изменения, Валланос?
– Частично твоим отъездом. Все думали, что тебя похитили скифы, и Окелос, с помощью других молодых людей, стал создавать военный отряд, чтобы направиться вслед за тобой, но рано наступившая плохая погода помешала им выполнить свое намерение. Они тосковали здесь, жаловались, что заперты в этих горах. После того как снега растаяли, сюда явился небольшой отряд тавров, они вели себя воинственно, и Окелос убил их предводителя, а его голову насадил на шест. То, что он сделал, понравилось другим. Они велели своим женам сшить для них юбки с двумя штанинами, сказали, что в такой одежде удобнее работать в шахте. А уж после того, как начались перемены, они пошли все быстрее и быстрее. Все приезжавшие торговцы были обеспокоены тем, что у нас делается, они отдавали свои товары за бесценок и спешили уехать. Таранис был доволен и стал поощрять воинственные наклонности молодых людей. Теперь все говорят о предстоящих битвах, может быть, и я приму в них участие.
– Довольно ли племя этими переменами?
– Не все. Как ни странно, Кернуннос очень огорчен всем этим. Кое-кто говорит, что он спятил. Он почти не выходит из своего дома, и когда кто-нибудь приходит к нему говорить, то застает его на ложе в таком глубоком сне, что его невозможно разбудить. Но он не умер – просто пребывает в других мирах. Но мы уже не нуждаемся в нем так, как прежде. С тех пор как мы стали насаживать головы на шесты, началась настоящая охота за головами – видно, они обладают такой же могущественной магией, как и Меняющий Обличье.
«О нет, Валланос, – мысленно возразила Эпона, – нет ничего, что могло бы сравниться с магией Меняющего Обличье. Может быть, если такова воля духов, я еще могу кое-чему у него научиться. Может быть, он простит меня».
Они въехали в открытые ворота, сопровождаемые вереницей кобыл. Со всех сторон, выкрикивая имя «Эпона», сбегались люди.
Выйдя из своего дома, к Эпоне направился Таранис; по его лицу, как расплавленный жир по хлебу, расползалась улыбка.
– Да осенит тебя солнечный свет, – приветствовал он ее, и ей пришлось поискать в своей памяти, чтобы найти соответствующий ответ. Она знала теперь столько других слов… сколько всего было сказано.
Вышла из дома и Сирона, за чьи ноги цеплялся ее последний ребенок; протирая сонные глаза грязным кулаком, она приветствовала Эпону так тепло, будто та не была дочерью Ригантоны. Подошли и многие другие, они ощупывали Эпону, чтобы убедиться, что это не кто иной как она. Не терпелось всем и поглядеть на пригнанных ею лошадей, удивительных, высоких лошадей.
– Я научилась объезжать лошадей, чтобы на них могли потом садиться другие люди, – сказала Эпона Таранису и увидела, что его глаза зажглись внезапным возбуждением.
Поспешили явиться и старейшины, чье число слегка уменьшилось за время ее отсутствия; им не терпелось выслушать рассказ Эпоны о ее скитаниях, но Таранис предложил, чтобы они подождали, пока все усядутся вокруг пиршественного костра, предоставив Эпоне почетное место.
– Сперва я велю нагреть воду, чтобы ты помылась, – сказал он Эпоне, – и ты сможешь повидать свою мать.
Загорелое, обветренное лицо Эпоны сохраняло полнейшее спокойствие.
– Я еще успею повидать Ригантону, – сказала она.
Разгорелся спор о том, как с ней поступить, но старейшины решили, что ее следует разместить в доме для гостей – там же, если хочет, может находиться и Дасадас. Но он отрицательно качнул головой:
– Дасадас будет спать снаружи, с лошадьми, он будет охранять тебя, Эпона.
– Меня незачем охранять, Дасадас, я дома.
– Я буду спать снаружи, – повторил скиф.
Он выглядел таким худым, таким изможденным, казалось, его сжигал какой-то внутренний огонь. Она хотела взять его в дом с собой, вымыть его раненое тело в теплой воде, согреть его красным вином, но он наотрез отказался от всего этого. Когда она поехала на сером жеребце к дому для гостей, он последовал за ней, ведя за собой кобыл, а кельты бежали рядом с ними, с восхищением притрагиваясь к лошадям, оживленно переговариваясь между собой об этом чуде.
На площади появилась фигура одинокого, охваченного яростью человека. Никто не заметил его; общее внимание было сосредоточено на прибывших. Кернуннос, разбуженный радостными криками, – даже гутуитеры боялись теперь будить его, какие бы важные ни были новости, – в диком гневе прибежал посмотреть, кто осмелился это сделать. Он увидел… двух вооруженных скифов… на конях; стало быть, в их селении незваными гостями опять появились скифы!
Этого он не мог стерпеть. Еще не пришедший в себя после блуждания в туманах других миров, жрец бросился вперед, доставая из-за пояса кинжал. Пробившись через изумленную толпу, он накинулся на ближайшего к нему всадника и стащил его с коня. Скиф тяжело упал на землю, слишком ослабевший, чтобы оказать какое-то сопротивление, и Кернуннос с воплями нечеловеческого ликования несколько раз погрузил кинжал в сердце кочевника.
Это произошло так быстро, что Эпона поняла, что случилось, только после того, как Дасадас уже лежал мертвым на земле, глядя в небеса незрячими серыми глазами. Что-то взорвалось в мозгу Эпоны, и она отдала приказ серому жеребцу, беспрекословному выполнению которого научил коня еще Кажак.
Кернуннос почувствовал, что над ним маячит какая-то огромная тень и, подняв глаза, увидел над собой машущего копытами коня. В следующий миг могучие ноги опустились на него, и серый жеребец втоптал его в грудь Матери-Земли.
Трубя свой боевой клич, вновь и вновь поднимаясь на дыбы и ударяя копытами, серый жеребец превратил жреца в кровавые лохмотья, и, наконец опомнившись, Эпона натянула поводья и отвела его в сторону, где он стоял, весь дрожа.
Кельты смотрели на затоптанные кровавые останки Меняющего Обличье, лежащие рядом с убитым им скифом. В своей последней схватке Дасадас все же сумел, изловчившись, вонзить железный кинжал, выкованный в кельтской кузнице, в тело Кернунноса. Однако в кровавое месиво и осколки костей жреца превратили копыта коня.
Только его лицо уцелело. Желтые глаза были закрыты, лучившийся в них свет погас. Огромный безобразный шрам с одной стороны головы, казалось, искривил его лицо вечной гримасой; отсутствие уха подчеркивало злобность этой гримасы.