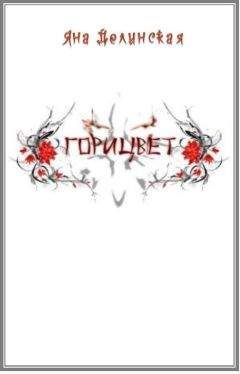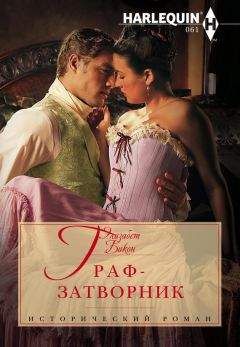Приехал он тогда ко мне, уже отравленный всей этой жизнью, которую вел там, в этом своем разбойном кругу. Игра, надо полагать, не вполне честная, связь с каким-то мошенниками, которые надували обманными сделками купцов и заводчиков, выуживая у них капиталы, кутежи в той же компании на речных пароходах и за городом в самых грязных кабаках, непотребные девицы… Одним словом, не твоим ушам, сударушка моя, все это слышать. И когда он приехал ко мне, чтобы проститься, я даже обрадовался, Подумал, что, вот мол, за ум взялся, хочет уехать подальше, чтоб отвязаться от друзей своих, мерзавцев. Да только, я ошибся. Оказалось, — я это уже после узнал, — уехать он собирался потому, что вздумал удрать от сыскной полиции, но в тот раз не повезло ему. Полицейские все-таки сцапали его и упекли в кутузку на несколько месяцев. Искали против него веские улики, да не нашли. А как только он оттуда вышел, так и пропал безвестно, не ведомо куда. Знать, не сладко пришлось за решеткой-то. Он же как-никак барчук, белая кость. Знамо, не сладко. Ушел в общем, как у них, у этой публики говорят, в бега.
Я, помню, все ждал, что хоть письмишко какое мне пришлет, ну хоть два словечка в записочке. Мне ведь только и хотелось, знать, что он жив, здоров, да не забыл меня. Но ни словечка ни единого от него так и не получил. Сердце о нем все изболелось, ну как о родном. Думал, мать его что-нибудь знает. Поехал к ней на квартиру, в город. Открыла мне баба-прислуга, и сказала удивленно так, что госпожа Грег, де, померла в прошлом месяце, а квартира теперь сдана новым жильцам. Я чуть не расплакался, как малое дитя, прямо там, в передней. Понял, что последняя ниточка, связавшая нас, оборвалась…
Матвеич пыхнул трубкой и посмотрел опустевшими глазами на лиловую пелену табачного дыма, повисшую неподвижно где-то на уровне его глаз. Взглянув на него, Жекки вдруг впервые увидела, до чего же стар ее Поликарп. Какие глубокие морщины рассекают его высокий лоб, расходятся от переносицы, ползут по смуглым щекам, путаясь в поредевшей, совсем седой бороде.
— Так вот оно вышло, — продолжил он словно через силу, с трудом подыскивая слова, которые и без того не сразу пробивались сквозь тяжелые сплетения его чувств и, обретая, видимо, не вполне точное соответствие тому, что он пытался, но не мог выразить. — Но увидеться с ним мне все ж таки довелось спустя примерно четыре года. Всякую надежду на его счет я к тому времени уже потерял. Думал, пропал мой Голубок весь как был, с потрохами. Жизнь-то она во какая, не охватишь, а человек в ней один, точно песчинка в океане. И крутит она им, и вертит, как вздумается, и что с той песчинкой бывает, когда она поперек океана возмущается всякий дурак скажет — ровным счетом ничего. И Голубку моему, видно, уж на роду было написано испить эту чашу. А потому что сизмальства не умел он никому подчиняться, и ничьей воли поперек своей не признавал. Вот и думал я, что пропал, то есть не в том смысле, что нет его уже на свете. Другое мне было тяжко — что погубил он навеки и жизнь свою, и душу. Разменял на всякую паскудную дрянь, и все стоящее проиграл и убил в себе. Не надеялся я уже ни на что. И ведь как в воду глядел.
Поликарп Матвеич еще раз пыхнул своей трубочкой, отогнал рукой неподвижно зависшую перед глазами дымную паутину. Жекки заметила его большие натруженные пальцы с пожелтевшими обломанными ногтями, непроизвольно в волнении сжимавшие штанину на левом колене. Глаза старика были обращены все в ту же ушедшую даль.
— Раз как-то осенью, пришлось мне отдать последний долг старому товарищу по службе в Туркестане, Селищеву. Ездил я на его похороны в Саратовскую губернию, в тамошний маленький городишко, а обратно домой поплыл из Саратова пароходом по Волге. Погода стояла холодная, пасмурная, зарядили дожди, и пароходное сообщение скоро должно было прекратиться. Мой пароход был одним из последних. Народу на рейс собралось порядочно. Все спешили воспользоваться последней оказией.
Я ехал во втором классе, и, не смотря на скверную погоду, вечером перед сном выходил на верхнюю палубу прогуляться. В тот вечер я как обычно проделал свой моцион. Посмотрел, как за бортом разбегается от колеса белая пена, как перекатываются серые волны, прислушался к крикам чаек, мельком отметил прогуливающихся тут же других пассажиров. Со всеми из них я уже перезнакомился, чтобы соблюсти положенные приличия общежития. Не более. И на душе у меня, сказать по правде, было не весело. Да и то, какое уж веселье после похорон.
И уже собрался идти к себе в каюту, потому что стал накрапывать дождик, и потянуло довольно свежим ветром, как из люка, ведущего на палубу, один за другим вышли несколько господ приличного вида. Они как-то сгрудились вместе, перемешались, стали шумно что-то говорить и смеяться. Было похоже, что кое-кто из них сильно навеселе. А так как раньше я не видел никого из этой честной компании, то догадался, что они сели недавно во время последней остановки, и, скорее всего, едут первым классом — только там оставались свободные каюты. Они продолжали шуметь, но я не прислушивался, собирался спуститься к себе. Другие пассажиры из старожилов тоже не сильно обрадовались такому неожиданному соседству, и торопились разойтись. Господа из первого класса вдруг тоже что-то там себе решили и стали продвигаться к выходному люку.
Я все никак не мог выбрать момент, чтобы до него добраться. Как вдруг, один из спускавшихся по трапу, высунул голову наверх и позвал своего приятеля, который все еще стоял у борта. От этого возгласа у меня, веришь ли, сударушка, ноги так сами собой и подкосились. Я едва не упал. Ведь он назвал имя моего Голубка. Я уже не мог двинуться с места и смотрел издали во все глаза на того, стоявшего у борта. Он никуда не спешил. Приятели его засмеялись чему-то и стали спускаться вниз, бросив его стоять в одиночестве. Прочие пассажиры тоже ушли.
Мы остались с ним вдвоем на палубе. При таких обстоятельствах, человек поневоле обращает внимание на другого. И он отметил мое присутствие, посмотрел пристально и сразу узнал. Я понял это по взгляду. И сам, не ожидая, что он меня окликнет, как одержимый первым рванулся к нему со всех ног. Но объятья получились принужденные. Он как-то поспешно отстранился от меня. Я смотрел и не верил своим глазам.
Передо мною был мой Голубок, но каким же он стал… Господи, Боже мой, каким он стал… Это был молодой князь Ратмиров, а не беглый каторжник, каким я ожидал его встретить. Он был дорого одет, по моде, хоть я в этом плохо разбираюсь. Темно-серое пальто было расстегнуто, шелковый шарф выбился из-под воротника и развевался ветром. На левом мизинце блестело кольцо с черным камнем. Он докуривал дорогую тонкую сигару, стряхивая пепел в забортную воду. Мысли у меня смешались. Я не знал ни что спросить, ни что ответить. Словом, стушевался, как последний болван, потому как увидел совсем чужого мне человека. Ну, о чем, скажи, было мне с ним толковать? И при этом мне не хотелось с ним так вот, шутя расстаться. С каждой минутой я чувствовал, что не могу отпустить его от себя, не расспросив толком, не узнав, что и как. А он напротив, отвечал коротко, неохотно.