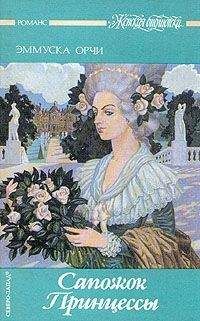– Мадемуазель, – тепло обратилась она к Кондей, – вы воистину устыдили меня. Ведь я тоже француженка, а вы принесли столько жертв тем, кто имеет полное право и на мое участие. Но, поверьте, если я и не сделала всего, что велел мне долг, то не по злому умыслу. Нет ли какой бы то ни было возможности, – добавила она серьезно, – помочь вам? Только забудьте о деньгах, скажите, чем могла бы я помочь вам действительно? Располагайте мной.
– Вы очень добры, леди Блейкни… – неуверенно начала Кондей.
– Да, так что же, говорите, я вижу, у вас есть что сказать…
– Это, пожалуй, не так просто сформулировать… но люди говорят, что у меня хороший голос… Я пою кое-какие небольшие французские поэмки… Это в Англии внове… И если я смогла бы петь их в модных салонах… Тогда, быть может, я могла бы…
– Так… вы будете петь в модных салонах! – воскликнула Маргарита. – Вы войдете в моду, и, я уверена, сам принц Уэльский будет просить вас петь в Карлтон-хаузе… Вы будете иметь приличное содержание, мадемуазель… и лондонское общество станет соперничать с батской элитой, чтобы заманивать вас на всевозможные интимные рауты… Тогда! Тогда! Вы станете счастьем для парижской бедноты! И чтобы уверить вас в том, что я отвечаю за свои слова, я устрою открытие вашей триумфальной карьеры в своем собственном салоне, завтра ночью! Будет его королевское высочество. Вы споете свои самые веселые песенки – и за ваше выступление вы получите сотню гиней, которую пошлете в беднейшие рабочие клубы Парижа от имени сэра Перси и леди Блейкни!
– Благодарю, ваша честь, но…
– Вы же не станете отказываться?
– Нет, я очень рада, но… вы поймите… Я еще не так стара, – грациозно заметила Дезире. – Я… Но я всего лишь актриса… А если никто не оберегает молодую актрису… тогда…
– Я поняла, – учтиво кивнула Маргарита. – Вы слишком хороши для того, чтобы появляться в свете без провожатого, и что у вас есть мать, сестра или друг, который… который смог бы стать завтра вашим спутником, вы это хотели сказать?
– Нет, – ответила актриса с нескрываемой горечью. – Нет у меня ни сестры, ни матери, но наше революционное правительство с запоздалым раскаянием обо всех высланных из страны прислало сюда своего представителя, чтобы присматривать здесь за интересами французских подданных.
– Да?
– Там, в Париже, известно, что я посвятила свою жизнь заботе о бедном народе, поэтому представитель, посланный сюда, очень заинтересован во мне и в моей работе. Он всегда рядом, если мне выпадает какое-нибудь беспокойство или оскорбление… Женщина, которая живет одна, часто становится объектом для всякого рода штучек, даже со стороны так называемых джентльменов… и официальный представитель моей родной страны во всех подобных случаях становится моим единственным защитником.
– Я понимаю.
– Вы его пригласите?
– Конечно.
– В таком случае, могу ли я представить его вашей чести?
– Когда вам будет угодно.
– Теперь же, если позволите.
– Теперь?
– Да. Вот он идет, к услугам вашей чести.
Миндалевидные глаза Дезире Кондей были устремлены в отдаленную часть палатки, к главному входу в балаган, за спину леди Блейкни. Последовала непродолжительная пауза, после чего Маргарита медленно повернулась, желая увидеть официального представителя Франции, которого только что согласилась по просьбе молодой актрисы принять в своем доме.
Прямо в дверном проеме, окаймленном кричащими драпировками, на фоне струящегося солнечного света, создающего нечто наподобие задника, в своих траурных одеждах стоял Шовелен.
Маргарита продолжала стоять молча и неподвижно. Она почувствовала, что на нее устремлены две пары глаз, и призвала на помощь всю свою силу воли, чтобы удержать в жилах кровь, стремящуюся покинуть лицо, чтобы заставить веки даже малейшей дрожью не выдать того леденящего ужаса, который заполнил всю ее душу при виде Шовелена.
Итак, он стоял перед ней, в своей обычной печальной одежде, с едва ли не унижением в проницательном взгляде, который всего лишь год назад в скалах Кале взирал на нее с беспощадной ненавистью.
Странно, но в этот момент она инстинктивно испугалась. Что, однако, не могло заставить ее отказаться от мимолетного жалостного взгляда на человека, пытавшегося так жестоко обойтись с ней и потерпевшего полное поражение в этом.
Низко и почтительно поклонившись, Шовелен приблизился с видом впавшего в немилость придворного, просящего аудиенции у своей королевы. Но как только он подошел ближе, Маргарита судорожно отпрянула назад.
– Быть может, вы предпочитаете вообще не разговаривать со мной, леди Блейкни? – покорно спросил он.
Она едва верила своим глазам и ушам. Это представлялось невозможным: как мог человек так решительно перемениться всего за несколько месяцев? Он казался теперь даже ниже ростом, съежившийся, вжавшийся сам в себя. Его волосы, которые он всегда носил без пудры, были теперь обильно припорошенными.
– Мне уйти? – добавил он после паузы, видя, что Маргарита и не собирается отвечать на его приветствие.
– Пожалуй, это было бы лучше всего, – холодно ответила она. – Нам с вами, месье Шовелен, вряд ли есть о чем говорить друг с другом.
– Воистину, вряд ли, – тихо согласился он. – Победителю и счастливцу всегда не о чем говорить с побежденным и униженным. Однако я надеялся, что у леди Блейкни на вершине ее триумфа найдется немного места для сострадания и прощения.
– Не думаю, что вам, месье, нужно от меня что-либо из этого.
– Сострадания, может быть, и нет, но прощения…
– Если вам это необходимо, то, ради Бога, считайте, что вы его получили.
– После того как я проиграл, вы могли хотя бы попытаться забыть об этом.
– Это выше моих сил. Но, можете мне поверить, я больше не думаю о том зле, которое вы собирались мне причинить.
– Но я проиграл, – запротестовал он, – и, кроме того, я не хотел причинить вреда вам.
– Нет, но тому, кого я люблю и о ком беспокоюсь, месье Шовелен.
– Я должен был служить моей стране всеми силами. Я не хотел причинять вреда вашему брату; он теперь в Англии и в полной безопасности. А Сапожок Принцессы был для вас ничто.
Она попробовала угадать в его словах скрытое значение. Предчувствие предупреждало ее, что этот человек во все времена может быть для нее только врагом. Однако он казался теперь таким сломленным и униженным, что презрение к его уничижительному поведению из-за понесенного поражения, окончательно изгнало из ее сердца чувство страха.
– Но даже этой таинственной персоне я не смог причинить никакого вреда, – продолжал Шовелен все с тем же унижением в голосе. – Сэр Перси Блейкни, как вы помните, перепутал все мои карты, конечно же, совершенно непреднамеренно… Я проиграл, а вы победили. Удача мне изменила, и наше правительство предоставило мне ничтожную должность за пределами Франции. Я наблюдаю здесь за интересами находящихся в Англии французских подданных. Миновали дни моей власти. Падение мое окончательно. Но я не ропщу, ибо я проиграл битву умов… но я проиграл… я проиграл, я проиграл… Теперь я почти изгнанник и почти лишен милости. Вот какова моя история на сегодняшний день, леди Блейкни, – заключил он, сделав еще один шаг по направлению к ней. – И вы должны понять, что если вы вновь протянете мне руку, то это будет великим утешением, и если вы позволите мне почувствовать, что никогда более у вас не возникнет желание меня видеть, то все же вашей женской теплоты хватит на то, чтобы заставить сердце простить меня и, может быть, даже сострадать мне.