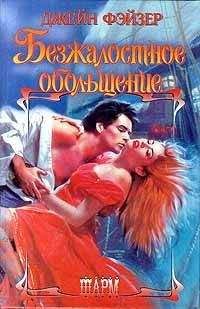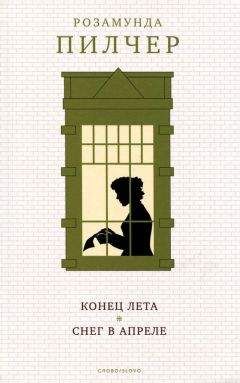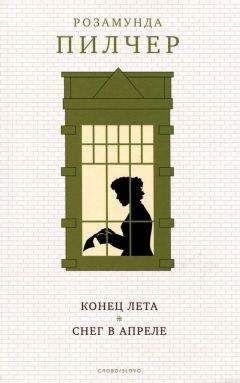Вот и теперь, слабо улыбаясь, она на минуту прижалась к Женевьеве, словно черпая у девушки силы, которых, казалось, у той не убыло, несмотря на долгие часы одиночества.
— Я так благодарна вам, Элен, — сказала Женевьева. — Он скоро уйдет к себе в контору, тогда вы сможете поспать.
— И ты тоже. Но я так хочу, чтобы ты постаралась больше не сердить его.
— У меня это выходит не нарочно, — Женевьева улыбнулась. — Иногда я ничего не могу с собой поделать, если знаю, что поступаю правильно.
— Ах, если бы ты хоть когда-нибудь отдыхала от сознания того, что должна поступать правильно, — вздохнула Элен. — О Господи, разве этому мне следует тебя учить!
— Как вам не стыдно, maman, — притворно хихикнула Женевьева.
Но вдруг поймала себя на мысли о том, что жизнь иногда могла бы быть более приятной, если бы она сама постоянно не руководствовалась только требованиями совести. Вот сегодня вечером, например, сама нажила себе могущественного врага в лице грозного Доминика Делакруа. Она постаралась отвлечься от этой неприятной мысли и с чувством обняла Элен — с чувством, подогреваемым мыслью об их общей суровой доле и разных методах, коими они пытаются с ней бороться.
Женевьева устало поднялась по лестнице в свой большую, солнечную, такую же, как и все прочие в этом доме, опочивальню с балконом, расположенную на третьем этаже. Больше всего ей сейчас хотелось рухнуть на кровать не раздеваясь, но жаль было нового платья из ситца в мелкий цветочек, того самого, в котором она встретилась с Домиником перед биржей Масперо в тот день. В тот день? Ощущение такое, будто прошло несколько дней, хотя это случилось всего часов шестнадцать назад. Целая жизнь! Зевая, она скинула детские туфли-лодочки, переступила через упавшее к ногам платье, юбки и белье.
Женевьева села на край кровати, чтобы снять шелковые чулки, недовольно подумав, что придется вымыть лицо, расчесать волосы, надеть пеньюар, но не было сил, и, совершенно раздетая, она забралась под покрывало, вдохнула лавандовую свежесть вышитой наволочки и тут же провалилась в забытье.
Сквозь открытое окно в комнату с набережной доносился шум рынка: выкрики продавцов, расхваливающих свой товар; взволнованный гул голосов покупателей — моряков, торгующихся чуть ли не на всех языках мира; пронзительные крики попугая; обезьяньи вопли; бесконечный нечленораздельный клекот мелких пташек. Вместе с этими звуками в комнату проникли и запахи — гниющей капусты и речной тины, специи и чеснока, пушнины, а также свежих, омытых дождем спелых овощей, созревших сыров и только что выловленной, искрящейся на солнце рыбы.
Но мужчинам, пристально глядевшим друг на друга через широкий письменный стол красного дерева в кабинете Виктора Латура, было не до кипящей жизни там, снаружи. Ведь это была та самая жизнь, которая составляла лишь фон для существования обоих с тех самых пор, как они себя помнили.
Жилка, пульсировавшая на виске Виктора, свидетельствовала о том, как трудно ему сохранять выдержку и спокойствие. Более молодой собеседник с бровями вразлет и резко очерченными губами и подбородком совершенно хладнокровно, с вежливой улыбкой наблюдал, как у хозяина кабинета что-то булькает в горле и как бисеринки пота выступают на его побагровевшем лбу.
— Значит, вы настолько безумны, что вообразили, будто я соглашусь на подобное предложение? — наконец выговорил Виктор. — Что я, Виктор Латур, стану партнером капера… мошенника…
— Вы бываете не столь строги в суждениях, когда речь идет о торговле с капером, — все так же вежливо напомнил Доминик. — Вы и ваши столь щепетильные друзья охотно берете то, что я предлагаю. Очень удобно закрывать глаза на то, откуда рее это берется, не так ли? Но, если позволите так выразиться, ваши руки тем не менее тоже запачканы. Ведь все эти шелка, бархат, бесчисленные мелочи, — все эти вещи силой отняты у какого-нибудь торговца, то есть украдены, если желаете. — И Доминик рассмеялся.
Глубокие, низкие раскаты этого самодовольного смеха отнюдь не разрядили наполненную ненавистью атмосферу, установившуюся в этой солнечной комнате. В ушах у Виктора зазвенело, он знал, что должен взять себя в руки прежде, чем его сердце начнет глухо колотиться о ребра. Однако он не сдержался и рявкнул:
— Наглый невежа! Как вы смеете говорить со мной в подобном тоне! Это вам даром не пройдет!
Доминик покачал головой и лениво встал:
— Сожалею, месье Латур, но, будучи в здравом уме, я не смогу принять ваш вызов. Вы намного старше меня, и, боюсь, ваше сердце не выдержит такой нагрузки.
Кровь отлила от лица Виктора, все его грузное тело тряслось.
— Вы меня не правильно поняли, Делакруа, — прошипел он. — Я вовсе не собираюсь драться с вами как с джентльменом. Я имел в виду, что отделаю вас кнутом.
Теперь настала очередь Доминика побледнеть. Бирюзовые глаза потемнели и зловеще засверкали.
— Очень боюсь, Латур, что вы пожалеете об этом оскорблении. — Он небрежно поклонился, щелкнув каблуками, развернулся и покинул кабинет судовладельца.
Его лошадь стояла перед домом. Оборванный мальчишка, отвязывая поводья и подавая их Доминику, невольно сжался при виде этих холодных глаз, зловещей усмешки и силы, распиравшей широкие плечи. Затрещины доставались мальчишке чаще, чем мелкие монетки, поэтому, передав поводья всаднику, он стремительно отскочил назад.
— Что это с тобой, черт возьми, парень? — спросил Доминик, очнувшийся от своих мрачных мыслей, скрытых под непроницаемо-ледяной маской.
Он достал из кармана монетку и свесился с лошади, протягивая мальчишке. Ребенок робко сделал шаг вперед, схватил монетку, тут же снова отскочил к стене и пробормотал:
— Месье что-то рассердило. Доминик потемнел лицом:
— Да, точно, но ты тут ни при чем, малыш. Я вовсе не склонен вымещать свой гнев на невиновном.
Стараясь держаться в стороне от шумного рынка, он направился вдоль набережной к другому людскому водовороту, кипевшему там, где стояли на якоре высокие суда, скрипели канаты и на речном ветерке, дувшем с залива, громко хлопали спущенные паруса.
"Танцовщица» в полном соответствии со своим именем, казалось, плясала на легких волнах. Этот изящный белоснежный фрегат был гордостью Доминика, и один только вид «Танцовщицы» словно пролил бальзам на его пылающую душу. Но он же явился и болезненным напоминанием о неудачной встрече. Доминик должен был добиться содействия от Латура и добьется его. Но теперь ему придется действовать единственным оставшимся способом, то есть насилием. Да, он заставит Латура согласиться и тем самым отомстит за оскорбление.