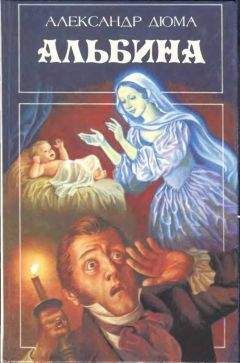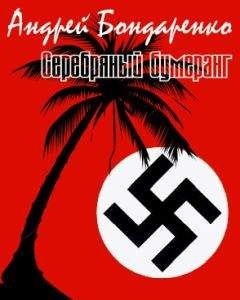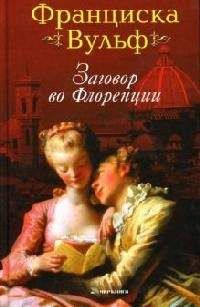Джонатан с раннего утра отправлялся на охоту и чаще всего возвращался вечером с пустыми руками; целый день он бродил в самых мрачных местах или задумчиво лежал в тени какого-нибудь дерева. Что касается Эверарда, печаль не могла оледенить его молодого сердца, но в своем уединенном жилище, вдали от людей он развивался как дикий цветок. Он не видел людей, кроме Гаспара и Джонатана; весь мир для него заключался в древнем замке и в окрестном лесу. Но ему был знаком другой мир, мир невидимый для других; он везде видел свою мать, всегда думал лишь о ней. Свидетелем и поверенным его дум и мечтаний был темный лес, который вполне соответствовал его мечтательному характеру. Здесь были глубокие овраги, куда не проникал дневной свет; здесь журчащие ручейки перекликались с хорами птиц; местами на угрюмых гранитных скалах возвышались полуразрушенные башни. Естественно, что привидения должны были полюбить эти развалины былого.
Эверард хорошо знал эту зеленеющую вселенную. Он взбирался на высокие деревья и спускался в глубокие бездны; он любил лес, как друга, и лес как будто отвечал на эту любовь, как будто баловал его своими ласками. Эверард любил все, что окружало его; никогда он не ломал ветвей, боялся раздавить ногою какой-нибудь цветок, с грустью слушал жалобные крики совы и жалел даже пауков и змей. Зато и все обитатели леса как будто видели в Эверарде такое же невинное и доброе существо, как и они сами, и без всякого страха увивались вокруг него, когда он отдыхал под каким-нибудь деревом. В этом лесу Эверард виделся со своею матерью. Ему стоило только закрыть глаза — и святое видение представлялось его воображению. Но иногда он видел свою неземную покровительницу и с открытыми глазами. Она поддерживала его, когда он бродил по окраинам стремнин либо взбирался по сыпучему каменнику; иногда она говорила с ним и давала ему свои советы. Ее голос был голос самого леса: то нежный и приятный, то важный и строгий, а иногда грозный и страшный. Например, на заре какого-нибудь майского дня, когда свежий ветерок ласкал чело Эверарда, наш пустынник, отдыхая на зеленеющей лужайке, воображал, что он в объятиях матери, посылал ей тысячу поцелуев и как будто слышал ее ласковые речи: «Я люблю тебя, мое милое дитя; улыбнись мне, взгляни на меня, я люблю тебя!» Живое пламя любви наполняло тогда всю душу Эверарда, и он не чувствовал своего одиночества и сиротства.
Альбина была вместе с тем и наставницею своего сына. Были минуты, когда она внушала ему высокие уроки нравственности. Например, в торжественные часы вечера, когда темные тени стлались по земле, с последним шелестом листьев, с последним щебетанием птичек, с последними лучами солнца он слышал мудрые советы матери. Какие-нибудь развалины, какое-нибудь сломанное ветром дерево были красноречивым убеждением Альбины; иногда, остановившись на вершине горы, он слышал под своими ногами продолжительный шум, как будто отдаленное эхо вечности. Это Майн тихо и величественно катил свои волны, посеребренные первыми лучами луны. Так вся природа представляла некоторым образом посредника и толмача между юным мечтателем и его покойною матерью, даже скучный дождь и угрюмый туман, которые заставляли его предаваться размышлению, даже буря, которая, словно грозный упрек, производила в его сердце спасительный трепет, покуда не пробивался сквозь облака ясный луч солнца, словно приветный поцелуй.
Так воспитывался Эверард. Прихотливый ветер и тень покойной матери были его наставниками; более он не слышал никого. Едва ли он знал, что у него есть отец. Правда, в домике Гаспара иногда говорили о графе Максимилиане, но это имя не пробуждало никакого отклика в сердце Эверарда. В замке была отведена ему отдельная комната, но он редко заглядывал туда и большею частью оставался под кровлею Джонатана; здесь он был возле своего любимого леса; кроме того, в летнюю пору домик егермейстера, убранный цветами, походил на лес.
В чаще леса, близ одного ручья, Эверард нашел пещеру в утесистой скале. Это убежище, закрытое кустарником и фиговыми деревьями, очаровало его. На противоположном берегу ручья отвесною стеною поднималась гора, поросшая гигантскими елями; мрачная зелень этих деревьев и ропот волн придавали сцене какое-то грустное величие. Здесь Эверард проводил большую часть ночи и половину дня; здесь он предавался воспоминаниям о своей матери и Вильгельмине и, надо добавить, мечтал о Роземонде. Да, он желал возвращения Роземонды; подруга его детства непрестанно носилась перед его глазами в своем черном берете, из-под которого выбегали белокурые кудри, с улыбкою на розовом личике. Роземонда была единственной связью, которая соединяла его со здешним миром.
Во всем прочем, несмотря на свои четырнадцать лет, Эверард походил на сорокалетнего Джонатана и на Гаспара, которому было за восемьдесят. Важный и молчаливый, как старик, он садился возле них у очага и не говорил ни слова, равно как не спрашивали и его, где он был и что делал. Но когда приходило письмо от Роземонды, в доме егермейстера как будто наступал праздник. Эверард прыгал от радости, Джонатан плакал от умиления и даже Гаспар выходил из своего безмолвного созерцания. Потом начиналось чтение письма, что предоставлялось Эверарду. Роземонда писала о своих подругах и о своих успехах. Ее учили истории, французскому и английскому языкам, рисованию и музыке. Письмо читали, перечитывали, объясняли и потом снова перечитывали. В эти вечера дольше обыкновенного горела лампа в комнате егермейстера. На другой день все еще думали о Роземонде, но никто не говорил ни слова.
В таком уединении, в такой совершенной независимости, между привидениями, среди вековых сосен протекла мечтательная юность Эверарда. Он не читал никаких книг, кроме книги природы, которая всегда была открыта перед его глазами; он не говорил ни с кем, кроме Гаспара и Джонатана, и то очень редко. Когда какой-нибудь дровосек или крестьянин встречался ему в лесу, он убегал от него, как испуганная лань. Его жизнь проходила тихо и почти без всяких перемен со времени разлуки с Роземондою до 1808 года.
В это время старик Гаспар почувствовал какую-то слабость, которая увеличивалась со дня на день. В одно утро он был уже не в силах встать с постели, чтобы, по обыкновению, выйти к воротам или сидеть у Камина. Он позвал к себе Джонатана.
— Друг мой, — сказал он, — я чувствую приближение моей смерти.
— Это минутная слабость, батюшка, — отвечал егермейстер с невольною тревогой сердца.
— Нет, Джонатан, — возразил старик спокойно, — не долго остается мне жить на этом свете, но я не жалею, напротив, я радуюсь этому. Но прежде чем расстанусь с жизнью, я желал бы сделать два дела. Мне хотелось бы знать, что стало с моею Ноэми: жива ли она, или я встречу ее там. Это желание не исполнится, но другое желание… ты можешь удовлетворить его.