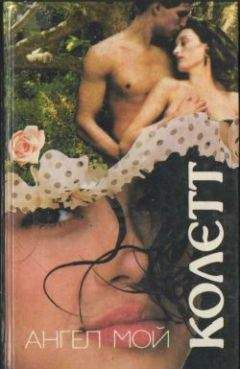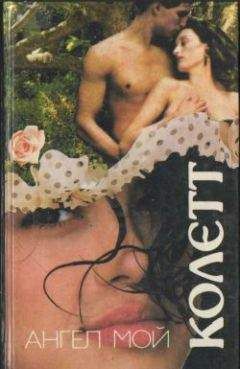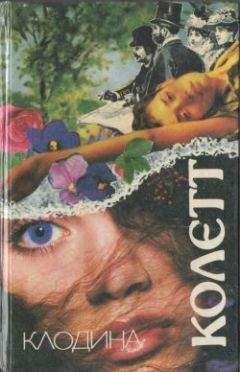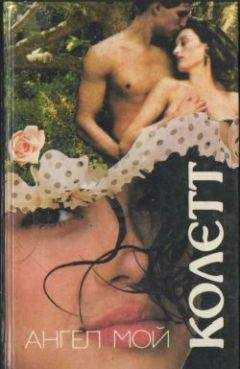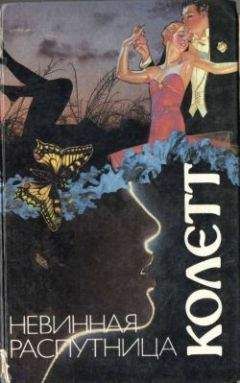– И всё же, мой Фару, надо записать их поскорее. Вот, держи…
Он прочёл телеграмму, два раза хмыкнул, мстительно и удовлетворённо, потом нахмурил брови:
– Только у меня нет Шарля Буайе… Бернстейн его не отпустит.
– Но Бернстейн такой милый…
– Это никак не относится к делу. Милый… Милый… Что за манера говорить о Бернстейне, словно это воробей или котёнок?.. Милый… Джейн! – крикнул он, запрокинув вверх голову.
– Что тебе надо от Джейн?
– Мне от неё надо, чтобы мы вернулись в Париж, вот и всё… Телеграмму Бланшару… Телеграмму Марсану… Ах да! И этому чёртову коротышке Каретту… чтобы он сыграл бармена… Его адрес есть у Кенсона…
Он взъерошил пятернёй волосы и вдруг смягчился:
– Опять всё начнётся сначала, опять погоня за исполнителями… Тридцать фамилий, а в результате – никого… Джейн! Где её носит, когда она мне нужна?.. Опять в который раз причёсывается или варит варенье в своём розовом передничке?.. Домашний ангел… Добрый гений пылесосный… Джейн!
Он излучал истинную злость и неблагодарность. Фанни слушала его, онемевшая и впервые сбитая с толку. Взгляд его жёлтых глаз остановился на ней.
– Нуте-с, Фанни! У вас такой вид, словно вы и не догадываетесь, что сейчас решается, как пойдёт у нас этот год, а может, и другие тоже, или я ошибаюсь, дети мои?.. Трик и Баволе отодвинуты в сторону… Честное слово, Бог существует! Пошевеливайся, детка. Нам удастся уехать сегодня ночным поездом? Джейн!
– Надеюсь, Фару-старший, вы всё же не заставите нас ехать ночным трёхчасовым? Поездом без спальных вагонов, набитым швейцарцами… Правда, Фанни?
Джейн бежала к ним быстро, но без излишней торопливости.
– В крайнем случае вы могли бы поехать на нём один…
Он неподдельно возмутился:
– Один? Когда это я ездил один, если в этом не было необходимости? И потом, в Париже дом закрыт, надо включать газ и всё такое… Впрочем, как вам угодно… Ох уж эти женщины! Я ведь, в конечном счёте, такой добрый…
Он вышел из себя, как всякий раз, когда ему приходилось уступать, и пошёл наверх, к дому, сделав досадливый размашистый жест, как бы прогоняя от себя обеих женщин.
– Оставьте его, – сказала Джейн вполголоса. – Я закажу места на завтрашний дневной поезд. Завтра в восемь вечера мы будем уже дома, так что с девяти до двенадцати он успеет переговорить с Сильвестром. А то что бы он стал делать завтра днем в Париже? Чтобы сделать ему добро, нужно поступать вопреки его воле; он такой же, как все… В любом случае Ивонну де Брей ему заполучить не удастся… Да! Ивонна де Брей была бы ему сейчас очень кстати…
Она нервно рассмеялась.
– С вами ещё бы немного, Фанни, и пришлось бы нам сейчас готовиться к ночному отъезду… «Да, мой дорогой…» Фанни, я попрошу у вас Фрезье, чтобы отправить телеграммы… Я сейчас их напечатаю. В сущности, вам и мне нужно собрать только свой чемодан, да ещё чемодан Фару… Если удастся отловить Жана, я пошлю его на вокзал… Нет, я сама схожу быстрее… Прачка задержала нам бельё. Фрезье заберёт его, пока я буду на почте…
Поостыв немного, она сказала голосом маленькой девочки:
– Фанни, я хочу, чтобы у вас было великолепное платье к генеральной репетиции! Боевая тревога! Видите, как у меня раздуваются ноздри?
Фанни, отвернувшись, спокойно смотрела на долину, где после дождя расцвели первые безвременники. Красные цветки вереска вбирали в себя свет косых низких лучей.
– Странно, – сказала она наконец, – я думала, что ненавижу это место… А теперь, когда я знаю, что мы сюда больше не вернёмся, оно мне кажется привлекательным…
Она призывала на помощь всю свою энергию, всё своё умение притворяться, а находила лишь какую-то разжиженную кротость.
– Не жалейте о нём, Фанни. Вы повидаете ещё более прекрасные места. Только не надо слушать Фару на будущий год… На будущий год…
Она стояла, касаясь локтём Фанни, и в её зазвучавшем тише голосе послышалась неприкрытая злоба – Фанни уловила в голосе Джейн нотку сообщничества с ней и недоброжелательства, относящегося именно к Фару. Она принимала поддержку предложенной ей руки, гибкой, сужающейся к запястью наподобие змеиной шеи, точёной у локтевого сгиба, мягкой, ловкой, готовой услужить.
«Эта рука слишком услужлива… Но если бы я воспылала ненавистью ко всем женщинам, которые были с Фару на «ты», то мне пришлось бы пожимать руки одним только мужчинам…»
Она воспряла духом, отбросив прочь свои сомнения, но решила быть более сдержанной и обратилась к Джейн слегка свысока:
– Джейн, будьте так любезны, найдите мне перечень мебели виллы «Дин»… Папаша Дин так дотошен…
Джейн, придерживая её в этот момент под локоть на самом крутом месте тропинки, рассеянно ответила: «да, да» и взглянула на дверь кабинета, откуда доносился громкий шум, создаваемый Фару, стук с размаху захлопываемых шкафов, скрип стола по паркету и минорная жалоба распекаемой служанки.
Вечер и половина ночи прошли в шуме и гаме. В одиннадцать часов Фару вдруг вздумал переделывать одну сцену четвёртого акта и начал диктовать её в холле. Его голос, эхом отскакивавший от голых стен, его целеустремлённый вид вдохновенного безумца, его тяжёлые чеканные шаги по стонущим половицам, почтительная покорность Джейн, которая стенографировала, изгнали Фанни прочь, и она нашла прибежище на террасе. Сырость и неподвижность ночи насытили воздух запахом тростника, тошнотворно-ванильным ароматом флоксов.
Перед распахнутой дверью, словно серый снег, кружились ночные бабочки, и Жан Фару взмахом шляпы сбивал самых крупных из них. Иногда он подпрыгивал вверх, как кошка, а внимание Фанни то и дело переключалось с этого грациозного танца ребёнка на внезапно разгоревшуюся и вызывающую уважение нелёгкую работу. Она упрекала себя за малодушие, отворачивалась в сторону всякий раз, когда лицо Фару, показываясь в прямоугольнике падающего на террасу слабого света, напоминало ей о том, что она должна страдать.
«Ещё одна пьеса Фару… Эта ненадёжная манна небесная… Что я буду делать в Париже? Эта история между ним и Джейн для меня – крушение или только болезнь, которая пройдёт, как и пришла, совершенно незаметно?..»
Её свисавшей руки коснулась горячая щека. Это Жан Фару подошёл и тихо сел на землю возле неё.
– Чего тебе надо? – тихо и раздражённо прошептала она.
– Ничего, – ответили невидимые губы.
– Тебе плохо?
– Ну разумеется, – сдержанно призналась тень.
– Поделом тебе.
– Я разве жалуюсь?
– Ты всего лишь маленький злоумышленник.
– Ах, мамуля, в вас нет никакой солидарности… Мокрая щека уткнулась ей в руку.
– Нет, – гордо выдохнула Фанни.
Питая отвращение как к жалобам, так и к заговорам, она искала в себе точку опоры, маленький изолированный редут.