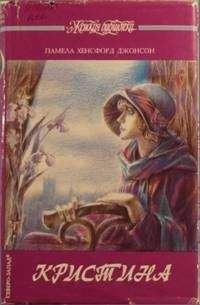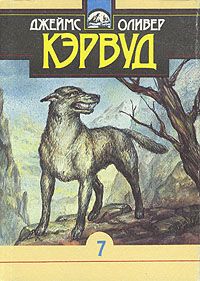Я испытала огромное облегчение, и чувство вины окончательно исчезло. Лесли убедил себя в том, что он первый положил конец нашим встречам, и я была рада, что он так думает.
— Возможно, ты прав, — согласилась я.
— Люсетта совсем другая, она сама немного ветрена. Моя матер считает, что она как мотылек. По pour le moment…[11] Его взгляд мечтательно устремился куда-то на шпиль церкви Св. Варнавы, серый, как глина, на фоне пронзительно голубого, почти итальянского неба, сулящего снова жаркий день. Это зрелище словно вдохновило Лесли, ибо он вдруг сказал: — В жизни есть и другие вещи, кроме любви. Более серьезные вещи.
Я согласилась с ним и пожелала ему успеха.
— Итак, — произнес Лесли (к этому спасительному слову прибегают в тех случаях, когда понимают, что пришло время закончить затянувшийся разговор, хотя и не хочется это делать, или когда хотят ускорить уход надоевшего собеседника). Он протянул мне руку, я пожала ее. — Vaya con Dios[12], — добавил он особенно эффектно и, приподняв свой нелепый котелок, который от волнения, здороваясь, забыл снять, сбежал по ступеням и зашагал к церкви Св. Варнавы. Вскоре он исчез в лучах заката, горевшего на минаретах Св. Марка и крышах Масонской школы.
Радостная и довольная, я вернулась в дом, где тетя Эмили предавалась своим излюбленным гипотетическим подсчетам несостоявшихся юбилеев.
— Только подумай, — говорила она, обращаясь к моему отцу и наклонившись с ножом в руке над телячьим языком, словно Юдифь над головой Олоферна, — если бы твой отец был жив, сегодня ему исполнилось бы сто два года.
Как всегда, мы с отцом выслушали это в почтительном и удивленном молчании, словно мой дед и вправду совершил такой подвиг.
— А твоей матери, — добавила она, — было бы девяносто три.
Этого оказалось достаточно даже для самой Эмили, ибо она умолкла и пригласила нас ужинать.
— С кем это ты разговаривала? — спросил меня отец.
— С Лесли. Он забежал ко мне по дороге на какое-то свидание.
— Надеюсь, ты не собираешься начать все снова?
— Конечно, нет.
— Твой Лесли просто недотепа.
— Он всегда был джентльменом, — робко заметила Эмили.
Лесли был неизменно любезен с ней и умел даже развлечь ее шуткой.
— Ну и дела! — воскликнул отец. — Если бы в подобном случае эдакое сказали обо мне, я перерезал бы себе горло, черт побери!
Отец был в одном из своих ностальгических настроений, в которые впадал всякий раз, когда вспоминал о недолгом пребывании в Центральной Африке; слабое здоровье очень скоро заставило его уйти в отставку. То были славные дни виски и покера. Кое-кто (только, конечно, не мой отец) держал даже черных наложниц. Забывая о том, кто его слушает, отец иногда рассказывал мне, как они называли туземных девушек «черный бархат».
Мне было жаль отца; я понимала, что его тоска, раздражительность и склонность к воспоминаниям вызваны необычайно жаркой погодой.
Зная, что он любит, когда ему немножко дерзят, я сказала:
— Не думаю, чтобы кто-нибудь назвал тебя джентльменом, услышав, как ты чертыхаешься.
— Ну, ну, Кристина, — запротестовала хотя и шокированная, но неизменно преданная отцу Эмили. — Твой отец настоящий мужчина.
— Так ли это? — печально промолвил отец и добавил без всякой видимой связи: — Почему я не привез с собой попугая!
В нашей жизни наступил период мертвящего затишья. Эмили всегда жила так и была счастлива. А мы с отцом это жаркое лето прожили в мире и согласии, но и в полном безразличии друг к другу. Мои друзья приходили потанцевать и отведать хлебного пудинга. Были легкие флирты и невинные увлечения. Я простила Айрис и снова приглашала ее к себе, хотя она бывала свободна лишь по воскресным вечерам, так как «работала»: она была одной из шести танцовщиц в кабаре. Айрис отняла возлюбленного у моей подруги Каролины Фармер, и та в отчаянии восемнадцати лет вышла замуж за человека, которого не любила и который бросил ее несколько лет спустя. А в остальном жизнь текла без перемен, пока в сентябре не пришло к концу мое учение. Я стала самостоятельно зарабатывать свой хлеб.
Мой колледж нашел мне место младшего секретаря (вполне звучный титул, позаимствовавший какую-то долю своего великолепия из табеля о рангах для государственных чиновников) в конторе одного из туристских агентств в Вест-Энде, с жалованьем два фунта в неделю. Это было почти то, о чем мечтала моя мать, готовя меня к карьере «личного светского секретаря». Ибо единственной чисто коммерческой операцией, которой нам приходилось заниматься, была выдача денег по аккредитивам. В остальном работа состояла в том, что мы устраивали нашим клиентам туристские поездки по стране, показывали им Лондон и выполняли их мелкие просьбы и поручения.
Управляющим конторой был мистер Фосетт, большой, добродушный, неуклюжий человек с черными блестящими глазами, имевший солидные связи в Европе и Америке и семью из четырех непутевых сыновей, с грехом пополам приобретавших в колледжах какие-то профессии. Этим в основном и объяснялся необычайно озабоченный вид мистера Фосетта, весьма импонировавший клиентам, которые не подозревали, что причиной его являются всего лишь постоянные семейные огорчения моего шефа.
Помощник мистера Фосетта, мистер Бэйнард был одним из тех джентльменов, старость которых уже смолоду написана на их лицах; небольшого роста, подвижный, он, казалось, ко всему был преисполнен недоброжелательности. Я сразу невзлюбила его, ибо в первый же день моей работы в конторе на площади Ватерлоо он отнял у меня мой звучный титул и стал называть просто «младшая». Секретарем мистера Фосетта была красивая еврейка мисс Розоман. Ее пышная красота напоминала недолговечную красоту распустившейся розы, изнемогающей от тяжести своих лепестков, — в любую минуту порыв холодного ветра мог сорвать их, оставив голый и сухой стебель. Мисс Розоман была практичной, прекрасно знающей свое дело молодой особой, у которой за видимым бесшабашным пренебрежением ко всему скрывалась добрая душа. Она работала у мистера Фосетта давно, еще в те годы, когда он возглавлял английское туристское агентство. Ему стоило большого труда оставить ее при себе сейчас, когда он перешел в американское агентство, ввиду упорного сопротивления главной администрации в Америке, которая не могла не считаться с антисемитскими настроениями некоторых своих клиентов.
Для прочей работы в конторе была еще мисс Клик, прилежная, тихая, тщедушная девушка, и рассыльный Хэттон, крупный мужчина с некрасивым лицом и стройным мускулистым телом. Одетый в шинель с галунами и фуражку с козырьком, Хэттон весь день бегал с поручениями по городу. Он неизменно сопровождал меня и мисс Розоман в качестве телохранителя, если по долгу службы нам приходилось отправляться в отель, чтобы писать под диктовку деловые письма наших клиентов.