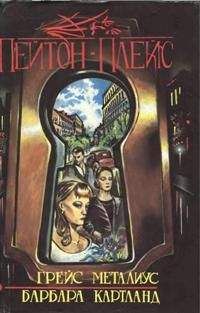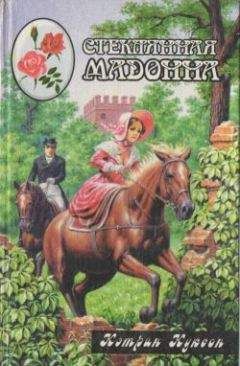— Я нахожу все это очень трогательным, — заявил Томми. — А вы, дядя Ефраим?
— Извините, — вздрогнул Квистус.
— Разве не трогательно, что тоскующий где-то в забытом Богом месте Китая человек пишет эту возвышенную чепуху о весне в Англии? Клементина прочла мне это. Подобную чушь может написать пятнадцатилетняя девочка в школьном сочинении, у него же это меня шокирует. Во всяком случае, я нахожу это ужасно трогательным.
— Да, это патетично, — заговорил Квистус, — это комично, это — трагично, это — климатично.
— Удивляюсь, что вы не добавили, что это — деспотично, психологично и фантастично, — возразила Клементина, схватывая с постели свою старую шляпу. — Вы, войдя в эту комнату, ничего кроме дерзостей не говорили.
— Язык, дорогая Клементина, дан нам для того, чтобы выражать свои мысли, — заявил он.
— Ба, — ответила Клементина и протянула руку. — До свиданья. Я еще зайду, Томми, чтобы повидать вас.
Квистус открыл ей дверь и вернулся на свое кресло. Томми протянул ему ящик с папиросами.
— Хотите папиросу? Я попробовал сегодня одну, но проклятая имела такой вкус, как будто я курил овсяную муку.
Квистус отказался от папиросы. Он молчал, мрачно рассматривал юное открытое лицо, хранившее в себе Бог знает какую подлость и низость. Будучи в хороших отношениях с его врагом, Клементиной, он также был его врагом. Он не сообщит цели своего визита.
Некоторое время вел разговор Томми. Он жаловался на предательский английский климат, который выманил его на улицу и затем уложил в постель. Это было ужасно. И как раз тогда, когда он начал себя чувствовать художником-пейзажистом. Он писал небольшой кусочек реки с золотым освещением и серебряными бликами, теперь начался май, деревья в зелени, нет эффекта начала весны и он не может окончить картину. Да, дядя не знает всех новостей. Маленькая картинка, которая (по вине Клементины) попала в угол Нью-Гэллери, продана за двадцать пять гиней. Разве это не великолепно? Ее купил какой-то неизвестный ему человек по имени Смит.
— Меня подбодрило то, что она куплена не кем-нибудь из знакомых, — наивно заметил он.
— Это был иностранец, который мог выбрать, что ему угодно, и он избрал мой пейзаж.
Квистус, односложно отвечающий во время делаемых Томми пауз, решил, наконец, исполнить то, зачем пришел. Он несколько раз пытался сказать то, что хотел, но язык не поворачивался во рту и слова застревали в горле.
— Это очень хорошо, дядя Ефраим, — сказал Томми, — что вы решили повидать меня. Как только я поправлюсь, я сделаю вам что-нибудь хорошенькое. В вашей гостиной одна стена умирает по картине. И я хотел сказать… — его мальчишеская физиономия лукаво съежилась, — я не знаю, как это случилось, но если бы вы могли дать мне мою пенсию, и вместо первого числа теперь…
Речь шла о месячном великодушном вспомоществовании. Квистус против воли дал обычный ответ.
— Я пришлю вам чек.
— Вы хорошего сорта, — поблагодарил Томми, — и на днях, когда я встану, вы не будете меня стыдиться.
Но Квистус ушел, стыдясь своей слабости. Он пришел с вполне определенным дьявольским намерением, что он лишает его наследства. Он выносил эту жестокость в своем уединении. По своей утонченности и коварству она казалась ему превосходной. И присутствие Клементины не только не переменило его решение, но открытие ее сообщничества в обмане еще больше раздразнило его мстительность. И теперь, когда настало время действовать, он опять спасовал. Он был шокирован собственной неспособностью. Посредине Слоун-сквер он остановился, позвал кэб и уже внутри его продолжал свои проклятия.
Очевидно, было что-то в его психологии, что не могло вылечить чтение Ломброзо и тюремного календаря. Или же это просто объяснялось недостаточной опытностью? Пожалуй, ему необходим учитель для практики преступлений.
В глубоком раздумье ходил он по своему музею. Наконец, улыбка появилась на его лице. Он сел и написал Хьюкаби, Вандермеру и Биллитеру приглашение на обед во вторник.
Квистус принял их в музее, длинной комнате, наполненной ящиками, геологическими коллекциями и книжными шкафами с палеонтологической литературой — нестерпимо холодное место. Троица выглядела еще оборваннее, чем когда бы то ни было. Бакенбарды Хьюкаби еще больше вросли в его щеки, лицо Вандермера сделалось еще более лисьим, Биллитер — бледнее и одутловатее. В передней на обычном месте не висело на этот раз ни одного пальто; во время непогоды они пошли на покупку более необходимых вещей. Все трое не имели никаких признаков нижнего белья. Биллитер был единственный, постаравшийся сделать вид, что он обрадован встречей.
— Мой дорогой Квистус, как я счастлив… — протянул он трясущуюся руку.
Но неприветливая физиономия Квистуса охладила его энтузиазм. Квистус молча поклонился и со своей обычной строгой вежливостью указал на стулья. Он был господином положения. Так средневековый князь школы Маккиавели принимал своего главного отравителя, удушителя и доверенную правую руку.
Они пришли к обеду. Но это не была прежняя трапеза. Не затихавший раньше разговор теперь часто сменялся мертвым молчанием.
— Хороший день, — сказал Квистус.
— Очень, — ответил Хьюкаби.
— Лучше, чем вчера, — вставил Вандермер.
— Обещает и завтра быть такой же, — заметил Биллитер.
— Обещающееся никогда не исполняется, — возразил Квистус.
— Хм… — сделал Хьюкаби.
Прожорливость брала верх над запросами разума. Брови Сприггса, лакея, изумленно поднялись при виде их усилий. Вандермер, сидевший на противоположной стороне стола, против Квистуса, до тех пор вертел головой, пока блюдо не оказывалось в сфере его достижимости; Биллитер ел с тупым цинизмом; Хьюкаби с бравадой.
— Боюсь, что мы были чересчур веселы последний раз, Квистус, — сказал он.
— Благодаря этому я и имею сегодня удовольствие наслаждаться вашим обществом, — ответил Квистус.
— Мне очень жаль, — начал Биллитер.
— Прошу больше не вспоминать, — прервал Квистус, — надеюсь, что вам нравятся эти перепела?
— Великолепны, — одобрил, не поднимая глаз от тарелки Вандермер.
Снова настало молчание, тяготившее даже этих отверженных людей; только Квистус, погруженный в свои мысли, чувствовал себя в своей тарелке. Он чувствовал себя так же, как на своем председательском месте во время заседаний Антропологического общества, когда слушал предварительное вступление секретаря. Таким предварительным вступлением для него был и этот обед. Когда было подано вино и Сприггс удалился, он обратился к своим гостям со следующей речью: