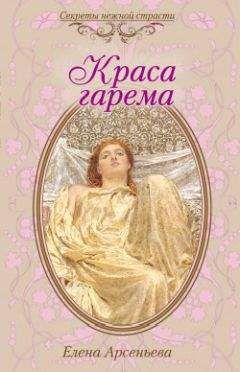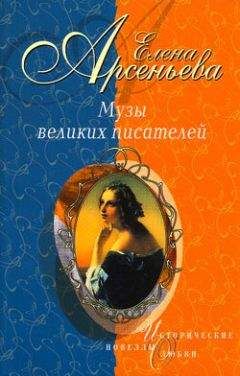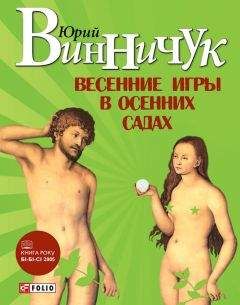Прасковья Гавриловна вновь послала человека к воротам, наказав впустить незамедлительно, коли пожаловал господин Свейский, а всякого иного спросить, кто таков и за какой надобностью явился. Вскоре лакей воротился с известием, что у ворот стоит не господин Свейский, а некий господин Сермяжный, который уверяет, что у него-де неотложное дело к хозяину.
В глазах Охотникова немедленно вспыхнул грозный огонек.
– Вот те на! – воскликнул он довольным голосом. – Послал же Господь утешение, услыхал мои молитвы. Неужто Сермяжный явился на дуэль напрашиваться? Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! Это небось получше будет, чем из Митрошки тесто месить!
– Какая тебе еще дуэль, неугомонный! – всполошилась Прасковья Гавриловна. – Больно много с черкесами бился, отвык от человечности! К нему гость – мало ли с каким важным известием, – а он тотчас за пистолеты да сабли!
– В самом деле, Василий Никитич, – примирительно проговорил Казанцев. – Что вы всякого готовы этак-то, в штыки? Не настораживает ли вас, что сей господин, которого мы в N оставили, оказался в Москве разом с нами и немедля вызнал место вашего проживания? И пришел сюда? Уж не появились ли у него сведения о наших дамах? Уж не господин ли Сосновский послал его с каким-нибудь поручением? Не гнал ли он верхи день и ночь, чтобы нас настигнуть и сообщить нечто важное? Не разумней ли будет нам его принять и выслушать?
– Разумней, бесспорно, – кивнул Охотников. – Велите просить сего ночного гостя, маменька.
Прасковья Гавриловна подала знак человеку, и по истечении нескольких минут в гостиную, куда, встав из-за стола, направились наши герои, был введен ремонтер Сермяжный.
При виде его Охотников и Казанцев невольно вытаращили глаза, потому что гость отнюдь не производил впечатления человека, только что сошедшего с коня после долгой и утомительной скачки. Сермяжный был чист, выбрит, вымыт, приодет, выглядел свежо и бодро, как если бы проделал путь почти в четыре сотни верст из N не верхом, а в удобнейшей карете, да и в Москве успел уже хорошенько отдохнуть.
– Вижу, вы немало изумлены нашей новой встречей, господа, – развязно хохотнул он, для начала, впрочем, весьма почтительно поприветствовав хозяйку, которая, сделав гостю несколько обязательных вежливых вопросов, немедленно удалилась от мужчин в свои комнаты. – А между тем у меня до вас, Охотников, дело столь неотложное, что я решился докучить вам своим присутствием.
– Что за дело? – прищурился хозяин.
– Я выехал в Москву вслед за вами буквально через час, по служебным надобностям получив срочное предписание начальства, – начал рассказывать Сермяжный.
– Неужели? – недоверчиво перебил Охотников. – А как, позвольте спросить, вы вообще узнали, что мы отправились именно в Москву? Что-то не припоминаю, чтобы вы были посвящены в наши намерения!
– Утром, – пояснил Сермяжный, – когда хмель повыветрился, я понял, что вел себя не вполне достойно, напрасно вас задирал и кочевряжился, а потому пошел к вам на квартиру – выразить свои сожаления и примириться с вами. Хозяин сообщил, что вы отправились в Москву, ну а поскольку я тут же получил начальственное предписание, то твердо решил вас в Москве отыскать. Обстоятельства сложились так, что я служебное поручение свое выполнил весьма спешно. Итак, позвольте продолжить?
– Ну, продолжайте, что с вами делать, – не слишком приветливо буркнул Охотников, однако Сермяжный не обратил на это внимания и заговорил словоохотливо:
– По прибытии встретился я на улице с приятелем, который немедля зазвал меня к себе, в только что открывшийся Восточный клоб[8]. Нынче же в моде все аглицкое, ну и завели такой клоб в Москве, на манер Лондона, да и в Петербурге он уже давно существует. В этом клобе я и привел себя в порядок усилиями тамошних банщиков да цирюльников, которые обладают самыми удивительными способностями снимать усталость и взбадривать человека. Потом мы с приятелем моим перешли в буфетную и принялись закусывать. При этом мы непрестанно беседовали, поскольку давно не виделись. В разговоре я упомянул о своем пребывании в N, прозвучало и ваше имя.
– Мое имя? – переспросил Охотников. – И в какой же связи это произошло? Не упомянули ли вы заодно при этом об некоторых обстоятельствах, о которых мы все дали твердое слово помалкивать?
– Боже меня упаси! – искренне ужаснулся Сермяжный. – Давши слово, держи его! Речь о вас зашла случайно, когда перечисляли людей, которые мне в N встретились. Я и о господах Казанцеве со Свейским упоминал, да мало ль еще о ком! Так что не извольте беспокоиться. В то время, когда шел этот разговор, неподалеку от нас находился некий господин, также клобный завсегдатай, который, услышав о вас, очень обрадовался и с извинениями вмешался в нашу беседу, сообщив, что давно ищет случая с вами повидаться. И не просто так повидаться, а пригласить вас на новоселье, которое намерен отпраздновать завтра. К нему звано, сказал он, множество всякого народу, однако господин Охотников, с которым он одно время общался весьма коротко, непременно должен там оказаться и полностью насладиться и встречей с прежним знакомым, и восточным гостеприимством – совершенно иным, нежели ему прежде было оказано.
– Что-то не припомню, чтобы какой-то восточный человек мне оказывал свое гостеприимство, – проворчал недоумевающе Охотников. – Если только это не… Нет, о нем мне и вспоминать тошно, это не может быть он! А впрочем, постойте-ка, Сермяжный! Как фамилия того господина, что намеревался пригласить меня в гости?
– Да вы сами взгляните на приглашение – и узнаете, кто он таков, – сказал Сермяжный, и Казанцев, который волей-неволей к сему разговору прислушивался, уловил плохо скрытое возбуждение в его голосе.
– Что же, вы и приглашение мне взялись доставить? – изумился Охотников. – Экая потрясающая любезность с вашей стороны!
– Почему не оказать услугу такому влиятельному, богатому и приветливому человеку, как мой новый знакомый? – пожал плечами Сермяжный, подавая Охотникову запечатанную бумагу наилучшего, просто-таки невиданного Казанцевым прежде качества, с самыми причудливыми водяными знаками, кои так и хотелось назвать арабесками.
Письмо было надписано по-французски четко и красиво, истинным каллиграфом: «Господину Охотникову Василию Никитичу в собственные руки». Казанцев с недоумением отметил, что военное звание Охотникова в сем адресе не названо, что являлось одним из двух: либо непростительной, вовсе не светской забывчивостью, либо намеренным желанием оскорбить адресата.
Охотников распечатал письмо, взглянул на подпись и воскликнул: