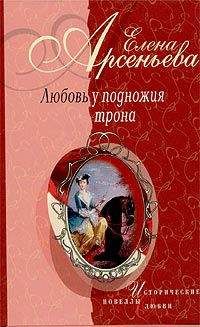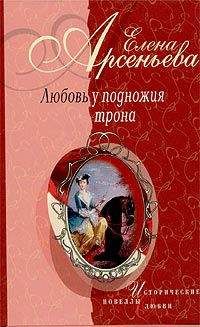– Храни тебя Бог…
…На другое утро камердинер Степан Васильевич Лопухин в половине восьмого отворил дверь опочивальни, где всегда спал государь, когда приезжал в Горенки, и на цыпочках прокрался к кровати.
Вот те на! Под пуховым алым одеялом – очертания двух тел. Торчат голенастые ноги – не то чтобы мужские, но и не мальчишеские. Пальцы грязные – государя не заставишь лишний раз на ночь ноги вымыть. Вот уж правда что мальчишка!
Впрочем, какой же он мальчишка, если с его ногами переплетены стройные женские ножки? Это, братцы мои, уже чисто мужские дела-делишки!
Степан Васильевич постоял минутку, с видимым удовольствием любуясь маленькой сухощавой ножкою с крутым подъемом и округлой розовой пяточкой. Совершенно все как в старинной песне: «Округ пяты яйцо прокати, под пятой воробей проскочи». А какие чудесные пальчики! Такие пальчики перстнями золотыми да серебряными нужно унизывать, как принято у восточных красавиц. Вообще, ножка вполне достойна сказочной царевны.
Чьи ж такие ножки могут быть, а? Кого успел заманить вчера в свою постель непутевый отрок? Вроде же был пьянее винища…
Прелестные ноги обнажены были только до колен – все, что выше, пряталось под одеялом, которым спящие накрыты были с головой. Степан Васильевич походил вокруг кровати на мягких лапках – он нарочно появился в толстых шерстяных носках, чтобы и ступать бесшумно, и ноги не застудить, – но разглядеть ничего не удалось. Вот закопались! Не тянуть же одеяло с этих шалых голов. От Петеньки, его царского величества, на такое можно нарваться…
Ладно, время идет. Он подошел к печи, где лежали с вечера приготовленные растопка и дрова, и принялся проворно, со знанием дела разводить огонь. Конечно, можно было позвать истопника, но Степан Васильевич сам любил возиться с печью, а потом разве можно допустить, чтобы посторонний увидал царскую ночную гостью? Вдруг окажется не какая-нибудь пригоженькая малышка из девичьей, а дама из общества? Бывало и такое, бывало. Внучок весь пошел в дедушку-блядуна Петра Алексеевича…
Степан Васильевич дипломатично грохотал полешками и кочергой, шуршал берестой что было силы, а сам настороженным ухом ловил, не зашевелились ли спящие. Ну, пора, пора, голубки, пора просыпаться, не век же спать-почивать!
Ага, заскрипела кровать. Не иначе, дошли молитвы на небеса! Степан Васильевич начал было пристраиваться половчее и понеприметнее оглянуться, чтобы все же увидеть неизвестную красавицу. Однако сдержал любопытный взгляд. У государя утром иной раз такая охота к продолжению наслаждений просыпалась – куда там ночным страстям! Вдруг снова пожелает помиловаться? Не сбежать ли, пока не поздно, пока голубки его не заметили?
Ан поздно.
– Степан, воды подай! – раздался хриплый голос повелителя всея Руси, который спросонок всегда говорил каким-то стариковским прокуренным басом. Ну да, страсть к табачищу он тоже унаследовал от деда и дымил с утра до вечера почем зря! – А ты, милая, радость моя… – И наступило молчание, а потом Степану Васильевичу почудилось, что государь вдруг разом помолодел годков этак на десять, потому что голосишко у него вдруг сделался тоненький-тонюсенький, совершенно мальчишеский. Более того – показалось Степану Васильевичу, будто малец этот вот-вот зальется слезами, потому что воскликнул плаксиво, испуганно: – А это еще кто?!
– Ваше величество, помилуйте! – послышался обиженный женский голос, и Степан Васильевич, забыв выучку и осторожность, резко обернулся, уставился недоверчиво на кровать, где, в невообразимом месиве подушек, простыней и одеял, рядом с перепуганным, всклокоченным императором сидела такая же перепуганная и всклокоченная… княжна Долгорукая.
Старшая княжна.
Екатерина Алексеевна.
«Мать честная… – подумал Лопухин чуть ли не с восхищением. – Обратали-таки нашего жеребчика!»
Он еще хотел всплеснуть руками, но не успел, потому что раздался осторожный стук в дверь, а вслед за тем – вкрадчивый голос:
– Ваше величество, Петр Алексеевич! Простите великодушно, коли беспокою, но до вас крайняя надобность! Позвольте войти! Вы велели немедля вас будить, коли у Белянки, вашей любимой лягавой, начнется, так вот первого щеночка она уже принесла. Отменный кобелек! Изволите встать и пойти поглядеть? Ваше величество, вы спите?
Петр, княжна Екатерина и Степан Васильевич только и успели, что обменяться ошалелыми взглядами, ну а потом дверь в опочивальню распахнулась, и на пороге появился не кто иной, как хозяин Горенок, Алексей Григорьевич Долгорукий.
Князь-отец, стало быть, как поется в старинных свадебных песнях…
* * *
– Сторонись! Зашибу! Сторонись, сволочи!
Этот высокий, ошалелый мальчишеский визг несся над полем и заглушал все звуки, сопровождавшие охоту: крики егерей, горячивших коней и подгонявших собак, которые, впрочем, и без понуканий угнали далеко вперед; лай осатаневших от близкой добычи борзых; тяжелое дыхание усталых от сегодняшних беспрестанных гонок коней; возбужденные вопли охотников, видевших близость добычи и всячески старавшихся опередить на подступах к ней всех соперников… Бедная лисица была одна на всех – на свору собак, свору коней, свору людей, – но, чудилось, отчаянней, горячей всех желал настигнуть ее юнец в черном полукафтанчике нараспашку, из-под которого был виден темно-зеленый шелковый камзол с широким поясом. Полукафтан надувался над его спиной словно парус; шапка давно слетела, короткие черные волосы стояли дыбом, взвихренные ветром; глаза, полные слез, вышибленных тем же ветром, чудилось, остекленели от напряжения, зубы были стиснуты, и меж них рвался этот не то визг, не то вой:
– Сторонись! Прочь, сволочи! Зашибу!
Его хлесткой плетки, впрочем, ни у кого не было охоты испытать на своих плечах. Это не просто мальчишка тринадцати лет, а не кто иной, как родной внук ломателя, ниспровергателя и сокрушителя, самого Петра Великого, сын злосчастного царевича Алексея Петровича, кончившего жизнь свою в застенке. Стало быть, государь-император, самодержец всероссийский, царь Петр Второй Алексеевич.
Только двое осмеливались скакать почти бок о бок с государем: рыжеволосая, с шальным взором всадница в травянисто-зеленой суконной, по аглицкой моде пошитой амазонке и щеголеватый молодец с надменным выражением безупречно красивого голубоглазого лица.
Всадницей была Елизавета, родная дочь Петра Первого, – Елисавет, как ее предпочитали называть близкие люди. Все в окружении царя знали, что мальчик совершенно без ума от своей озорной, насмешливой восемнадцатилетней тетушки, она его первая любовь и первая страсть, ради нее он на все готов и беспрестанно домогается от нее шаловливых поцелуйчиков и позволения пожать нежную пухленькую ручку, а Елисавет то поглядит ласково, то не поглядит, держит государя императора на коротком поводу, словно песика, но повод тот шелковый, так что сорваться у песика нет ни охоты, ни возможности.