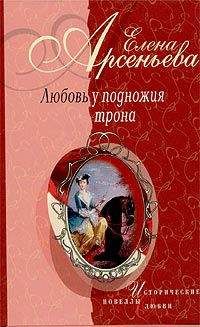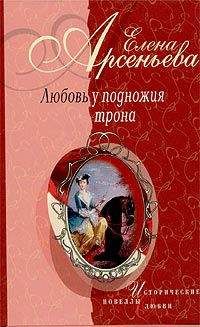Рядом с великой княжной скакал любимец государев, а по-иностранному выражаясь, фаворит: Иван Алексеевич Долгорукий, князь молодой, повеса, щеголь, гуляка и распутник, каких свет белый не видывал, но, несмотря на это, а может, именно благодаря этому сумевший занять прочное место в сердце того одинокого, всеми позабытого мальчишки, каким был некогда нынешний император Петр Второй Алексеевич. Ведь рано осиротевший отрок находился в таком пренебрежении у дедушки-государя Петра Великого, что для него не нашлось лучших воспитателей, чем вдова какого-то портного и вдова какого-то трактирщика, о коих знающие люди отзывались как о «женщинах неважной кондиции». Танцмейстер Норман учил царевича чтению, письму, а также поведал кое-какие первоначальные сведения о морском деле – ибо сам служил прежде во флоте. Мелькали на сем почетном месте некто Маврин, бывший при дворе пажом, затем камер-юнкером, а еще венгерец Зейкин. С миру по нитке – голому рубашка, с бору по сосенке – царевичу учителя! И только уж потом, позже, после смерти Петра Первого, к его внуку был назначен воспитателем обрусевший немец Андрей Иванович Остерман.
Когда будущий император Петр Второй Алексеевич был всего лишь десятилетним приживалом при дворе своего взбалмошного деда Петра Великого, князя Ивана назначили при нем гоф-юнкером[1]. Было ему семнадцать лет, но, несмотря на редкостную красоту и бесшабашность, Долгорукий был существом привязчивым и вполне способным на искреннюю дружбу. То ли жалко стало ему великого князя, то ли самозабвенная, поистине братская привязанность мальчика тронула его сердце, только рассказывают следующее. Будто бы как-то раз не выдержал князь Иван и, упав на колени перед царевичем, высказал, что всем сердцем предан потомку Петра Великого, почитает именно его, а некого другого, законным наследником российского престола, только ему одному готов служить, жизни не пожалеет ради него…
Услышать о столь безоглядной преданности всякому человеку во всякое время приятно, но одно дело, когда слагают преданность сию к подножию прочно стоящего трона, и совсем другое – когда высказывают ее затурканному мальчишке. Ведь в то время законной и бесспорной наследницей Петра Великого была императрица Екатерина Алексеевна, ну а за ней право претендовать на престол имели ее дочери, Анна и Елизавета. О наследственных правах сына Алексея Петровича никто и не помышлял тогда. Более того! Великий князь Петруша принужден был каждое утро отправляться с поклоном к светлейшему князю Меншикову, приговаривая при этом: «Я должен идти к Александру Данилычу, чтобы отдать ему мой поклон, ведь и мне нужно выбиться в люди. Его сын уже лейтенант, а я пока еще никто; Бог даст, и я когда-нибудь доберусь до прапорщичьего чина!»
Став государем, Петр не забыл первого своего друга. Молодой Долгорукий, признанный фаворит, обер-камергер[2], майор Преображенского гвардейского полка[3], кавалер орденов Александра Невского и Андрея Первозванного, жизнь вел рассеянную и превеселую, ну а женщины падали к ногам его словно переспелые яблоки, несмотря на то что вел Иван Алексеевич себя с прекрасным полом совершенно беззастенчиво. Похождения фаворита нимало не смущали царя, который, несмотря на юность, мог уже во многом дать фору своему повесе-наставнику. Что государь, что его обер-камергер исповедовали закон: «Быль молодцу не укор!», подчас делясь не только фривольными воспоминаниями о своих любовницах, но и самими этими любовницами.
Вот и за прекрасной Елизаветой, которую при дворе чаще называли на старинный лад Елисавет, а то и просто Елисаветкою, император и фаворит ухлестывали разом. Не далее как вчера на балу, устроенном в Грановитой палате и посвященном рождению в Голштинии принца Петра-Ульриха[4], сына сестры Елизаветы, Анны Петровны, все могли видеть, как явно ревновал государь, наблюдая контрданс, в котором шли Елисавет и Иван Долгорукий. Люди ушлые и дальновидные даже начали спорить, кого скорей прогонит император от своей особы: Ивашку, разжаловав его в солдаты, или шалую рыжую царевну, отдав ее в монастырь.
Впрочем, все обошлось и никаких гонений не последовало.
Больше всех уязвлен был этим случаем Алексей Григорьевич Долгоруков, отец Ивана. Душа его просто-таки разрывалась!
С одной стороны, хорошо, если бы зазнавшийся не в меру сынок получил хороший щелчок по носу. С другой, если Ивана пометут со двора, то очень может быть, что пометут вместе с ним и всех Долгоруких. А князь Алексей Михайлович не для того сладил ссылку своего старинного неприятеля Алексашки Меншикова в Березов, чтобы уступить нагретое местечко при императоре кому-то другому! Алексашка ведь тоже цеплялся за Петра руками и зубами, вплоть до того, что даже обручил его со своей дочерью Марией. Умен был, прощелыга! Вот кабы Алексею Григорьевичу нечто подобное сладить! Его Екатерина ни в чем Марии Меншиковой не уступит, а красотой, пожалуй, и превзойдет. Эта холодноватая красота великолепно смотрелась бы на царском троне. А уж каково красно смотрелся бы князь Долгорукий в роли императорского тестя…
Алексей Григорьевич, разнежившись в честолюбивых мечтаниях, отмел, словно нечто незначащее, воспоминание, что обручение с Марией Меншиковой Петр спокойно расторг, словно и не менялся с ней кольцами. Нет, с Екатериной он так не поступит. Потому что Алексашка, выскочка безродный, на старости лет вдруг ощутил дурацкое тяготение к приличиям и дочку свою мечтал выдать замуж непорочной девою. А вот Алексей Григорьевич, природный князь, чья родословная насчитывала невесть какое число поколений, на всякие такие глупости насчет девичьей чести плевать хотел. И твердо знал: если он хочет добиться своего, надо, чтобы Катька сперва стала любовницей государя, а уж потом – супругою. То есть она должна затащить молодого дурня в постель. Тогда уж он точно не отвертится от брака!
Но беда состояла в том, что Алексею Григорьевичу приходилось преодолевать сопротивление не только императора, но и дочери…
В эту самую минуту тихоходный конек Алексея Григорьевича вдруг испуганно шарахнулся в сторону: мимо во весь опор пронеслась всадница в синем, будто вечерние небеса, бархатном платье. Круп ее вороного коня лоснился под солнцем, и точно такого же густого, вороного, черного цвета были великолепные локоны, ниспадавшие на точеные плечи красавицы. Конем она правила с великим мастерством, несмотря на то, что сидела в седле не по-людски, а по-дамски – бочком, свесив ноги на одну сторону. Алексей Григорьевич только себе мог признаться в том, что он бы, скажем, и двух шагов в такой позиции проехать не смог, а красавице словно нипочем были ни бешеная рысь, ни резкие прыжки вороного. На лице ее сохранялось холодновато-невозмутимое выражение.