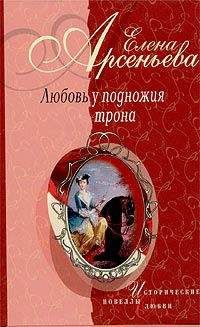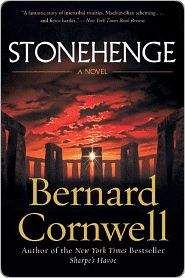Кожа у него была еще гладкая, на лбу нет морщин – не стар. Ни сединки в волосах и в усах. Скиф, рус… пришедший из таких далей, что даже и подумать о них страшно. Каково у них там, где-то на севере… может быть, именно там живут сыны ледяного ветра Борея? Дед говорил, что зовутся они гиперборейцы и их страна излюблена Аполлоном[4], ибо оттуда родом его мать Лето. Сам солнечный бог тоже иногда улетал туда вместе с лебедями, именно там хранил стрелы, которыми перебил циклопов[5]. Дед горевал, что в Доростоле, да и нигде в мире не почитают обычаев гиперборейских; а ведь там старцы, устав от жизни, увенчивают себя цветами, а потом бросаются в море и находят мирную кончину в его волнах. Христова же вера запрещает самовольное прекращение своей жизни, отправляет грешников в ад. Эйрена до сих пор не знает, нечаянно ли дед утонул в реке или поступил, как поступают гиперборейцы…
Девушка задумалась так глубоко, что не сразу заметила: раненый-то открыл глаза! Лежит молча и смотрит на нее. Глаза у него были, как вода Истра, – не то голубые, не то серые… сизые, мерцающие. Облизнул пересохшие губы, что-то сказал чуть слышно. Слов Эйрена не поняла, но догадалась, что его мучит жажда.
Вот беда, река рядом, а воды принести не в чем! Разве что в пригоршнях?
Сбегала, напоила его прямо из рук. Странное что-то в душе шевелилось, пока он пил, прихватывая губами край ее ладоней. Знаком показал – еще пить! Так она бегала трижды, а потом, опустошив «чашу», он вдруг перехватил ее руку и начал собирать языком последние капельки с ее ладони. Медленно, странно медленно, не сводя при этом глаз с Эйрены. И его влажные усы щекотали ее запястья.
Вдруг захотелось погладить его по голове, запутаться пальцами в пыльной пряди.
И стало страшно – ну до того страшно! Может быть, так почувствовала себя Европа[6], увидав белого быка, который потом умчал ее в неведомые дали. И хочется коснуться незнакомца, и жутко, как будто немедленно вслед за этим невинным движением разверзнутся под ногами неизмеримые бездны – глубже самого Тартара.[7]
Эйрена так и не решилась потрогать руса, но он сам завладел и второй ее рукой, а потом притянул к себе – так, что она невольно склонилась к нему на грудь. Теперь его прозрачные, текучие глаза были совсем рядом.
– Пусти меня, – прошептала Эйрена. – Я сейчас упаду.
Однако он привлекал ее к себе ближе, ближе – и вдруг резко перевернул на спину.
«Да он же ничего не понимает! – догадалась Эйрена. – Он не знает моего языка, а я не знаю его. Как же мы будем разговаривать?»
Разговаривать пока, впрочем, не приходилось. Одной рукой скиф держал Эйренины руки, закинутые за голову, другой медленно вел вверх по ногам, сминая и задирая рубаху.
– Нет, нет, – забормотала она, поняв наконец, что сейчас случится. – Что ты делаешь? Не трогай меня, я Христова непорочная невеста!
И тут же вспомнила, что скиф ее все равно не понимает, так что говорить с ним бессмысленно. Может быть, надо кричать? Она и закричала – от боли. Но было поздно, было уже поздно, и лик Христа смиренно и незлобиво взирал с небес на позор своей непорочной невесты.
А сквозь закатные солнечные лучи вдруг явственно проглянула усмешка лукавого, забытого Эроса.
…Святослав вернулся в крепость уже ночью. При виде его воины, считавшие своего вождя погибшим и пребывавшие в полном отчаянии, разразились приветственными криками.
– Завтра зашлем послов к Цимисхию, – усталым голосом сказал Святослав, осторожно трогая запекшуюся на виске корку крови. – Мир предложим. Нельзя ему наше поражение, нашу слабость видеть. Проведает о том, что у нас все побиты и силы нет, – немедля к крепости приступит, и тогда осады нам не выдержать. А придем как победители – со снисхождением до него – и уйдем, сохранив свою гордость. Обязались греки нам дань платить – и пускай платят. Довольно с нас будет.
– А ну как не согласится? – послышался насмешливый голос.
Это говорил один из воевод Святослава – Свенельд, названный так по имени отца своего. Старый Свенельд, погибший много лет назад, был пестуном Святослава и начальником дружины прежнего князя киевского – Игоря Рюриковича. Свенельд и его братья, Мстиша и Лют, росли вместе со Святославом.
– Кто не согласится? – нахмурился Святослав. – Этот Цимисхий? Слуга, подло убивший господина своего, законного императора Фоку? Да ему наше предложение – такая честь, что как бы не подавился! Пусть спасибо скажет, что я, князь русский, его миром удостою. Согласится с радостью! Мы у него еще такие выгоды выторгуем, что не с пустыми руками из этих краев уйдем. Все, что за эти годы взять успели, унесем с собой. Камни, золото, аксамит да алтабас[8], кубки звонкие, коней легконогих, чернооких женщин, какая кому по нраву. Только уговор: вот эту – не трогать. Князева добыча.
И он вытянул из-за своей спины тонкую фигурку, дрожащую от ночной прохлады.
– Она мне жизнь спасла – не отпущу от себя. В Киев возьму, в моем доме жить станет.
– А княгиня что? А Малуша? – послышался голос злоехидного Свенельда.
Кто-кто, а он-то прекрасно знал, что любимая наложница Святослава куда своенравней тихой, послушной жены его Вольгуши. Мать Святослава, старая княгиня Ольга, видеть не могла дочь древлянского князя Малушу, крепко вскружившую голову молодому князю и родившую от него сына, а потому, хоть и не гнушалась выблядком Владимиром, Малушу, его мать, держала вдали от Киева, аж в далеком псковском селе Будутине. Но стоило умереть Ольге, как Малуша объявилась в стольном граде, и молодая княгиня Вольгуша пикнуть не посмела.
Как и велось при старой княгине, Владимир воспитывался вместе со старшими сыновьями Святослава – Ярополком и Олегом, и между тремя княжичами никто не делал никакого различия. Напротив – многие приближенные, остро чуявшие, куда и откуда ветер дует, оказывали Владимиру изрядное почтение. Мало ли что выблядок! Хоть на княжеском столе теперь в Киеве Ярополк, сын Святослава, но он еще мал, толку с него никакого. Ключница Малуша и ее брат Добрыня, воевода над всеми дружинниками, оставшимися для охраны стольного града, в отсутствие Святослава что хотят в Киеве, то и воротят. Небось безропотная Вольгуша себя гостьей у собственной ключницы чувствует. Незваной гостьей!
Так что вопрос Свенельда был не так безобиден, как могло показаться. Святослав насупился:
– А ничего они не скажут. Я ее не для себя взял – для сына. Ярополку отдам в наложницы.
Свенельд кивнул, признавая свое поражение. Наложница – не жена, ничего нет страшного, что она, чужинка безродная, пленница копья князева, да и в том невелика беда, что князь ее первым распробовал (в этом Свенельд мог бы поклясться!) и еще не раз отпробует в обратном пути. Ну что ж, девка красавица, только печальна ее красота. Эти черные очи, эти черные косы… ну сущая Богородица, которую так почитают греки и местные жители и которую покойная княгиня Ольга пыталась заставить почитать русов. Ох и тоска – век таким вот печальным очам молиться! Вот у Лады[9] глаза совсем иные – голубые, веселые, озорные.