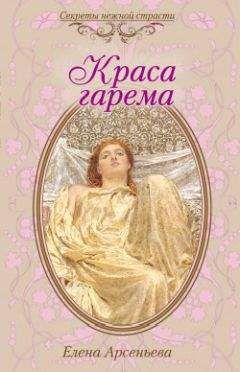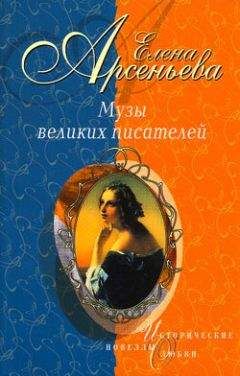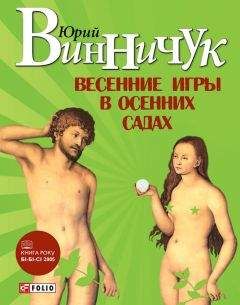– Здесь сказано, – Казанцев быстро пробежался глазами по строкам письма, к которому вспыхнувший, словно порох, Охотников толком и не присмотрелся, конечно, – что вниманию гостей будет предложена национальная турецкая пиеса «Свадьба Карагеза». Что это означает?
Охотников пожал плечами:
– Ну, я видел как-то раз в Новочеркасске такое представление. Карагез – нечто вроде нашего Петрушки, этакий сказочно-балаганный восточный персонаж. Гротескная фигура высотой в семь-восемь дюймов[13], которая действует под аккомпанемент турецкого бубна. Обожают Карагеза особливо турки, но и вся прочая черкесня кавказская весьма жалует. Он не такая кукла, кои на руку надеваются, а марионетка, навроде тех, что представляют в балаганчике Полишинеля. Однако турецкий балаган Карагеза – это еще и театр теней, наподобие китайского. То есть кукольник стоит позади фонаря, направленного на туго натянутую ширму, и зрителям виден не сам Карагез и его соучастники по пьесе, а лишь их тени.
– Слушайте, – недоверчиво промолвил Казанцев, – я этого Мюрата представлял себе более светским и искушенным человеком, а тут получается что же? Он намерен собрать у себя изощренную публику – о размахе его приема говорит уже бумага, на которой напечатано (заметьте, напечатано типографским образом, а не написано от руки!) приглашение, – но в то же время обещается угостить своих гостей весьма непрезентабельной пищей для ума простолюдинов. Как-то у меня сие не вяжется с образом Мюрата, родственника знаменитого полководца и самого Наполеона! Я понимаю, коли устроил бы сей господин показ французского балета, ну, на худой конец, кончерто гроссо итальянских кастратов или представление английской труппы, дающей Шекспира…
– Зря вы этак пренебрежительно о Карагезе, – вкрадчиво перебил Сермяжный. – В своем роде в Турции сей персонаж значительней Гамлета для англичан. Помните, как Гамлет доверил странствующим актерам иносказательным путем донести до крупнейших персон государства важные вести, кои никто из приближенных не осмелился бы сообщить? В подобных историях порой участвует и Карагез. Рассказывают, например, что некогда Османской империей управлял некий султан, любимая супруга коего, называемая валиде, то есть главная жена, султанша, тайно терзала наследного принца, рожденного, само собой, от другой жены. Никто не решался донести султану об этих притеснениях, ведь он ни за что не поверил бы, да еще и отдал бы доносчика на расправу самой валиде. Тогда один из его советников придумал способ иносказательный и безопасный. Султан очень любил представления театра Карагеза, и я должен сказать вам, господин Казанцев, – оговорился Сермяжный, – что в Турции сей театр вовсе не сведен к уровню площадного балаганчика и презираемым зрелищем отнюдь не считается. В сераль (кстати, следует уточнить, что в Османской империи так называется не гарем, а султанский дворец, интимное же значение этому слову придали французские путешественники за то благозвучие, которым оно обладает по сравнению с резковатым на европейский слух словом «гарем») был приглашен лучший импресарио со своими куклами, причем некоторых из них изготовили нарочно для такого случая. В представлении изображался некий султан – совершенно, конечно, иносказательный, сказочный, – который женился на невольнице и сделал ее султаншей. Она же, низменным страстям подчиняясь, жестоко мучила наследника престола и в конце концов отдала приказ его тайно умертвить, а потом начала подбираться и к самому султану, желая отравить его и посадить на трон своего сына… Тот правитель, не кукольный, а реальный, был отнюдь не дурак и намек понял. Он послал за юным наследником своим, расспросил его, увидел на теле следы жестокого обращения и получил от принца признание обо всех перенесенных им страданиях. Избыточно осмелевшую султаншу упрятали по старому обычаю в мешок и бросили в море. Все разрешилось к общему удовольствию!
– Ничего себе удовольствие для этой несчастной дамы! – передернулся Казанцев. – Однако вы, Сермяжный, как я вижу, весьма сведущи в тонкостях турецких нравов.
– Да что вы! – немедленно стушевался ремонтер и даже руками замахал от смущения. – Это я так, нахватался вершков в разговоре с господином Мюратом, который нам, мне и приятелю моему, не погнушался рассказать об особенностях восточного театрального искусства.
– Вот оно что! – проговорил Охотников, прохаживаясь по комнате в явной задумчивости и даже, как показалось Казанцеву, в растерянности. Видимо, от этой же растерянности хозяин дома бесцельно брал и переставлял с места на место разные вещи и безделушки, украшавшие столы и этажерки. То он принимался вертеть в руках тяжелый канделябр, то без всякой надобности водрузил на верхнюю полку шкафа изысканную китайскую вазу, доселе весьма уместно стоявшую внизу, то зачем-то убрал с виду пару изящных мраморных статуэток, изображавших премилые пасторали. Наконец из какого-то ящика был извлечен моток бечевы, которую Охотников и принялся разматывать и заново сматывать, давая выход, вероятно, своей озадаченности. – Вот оно как! Получается, вы теперь коротки со значительным лицом, – повернулся Охотников к Сермяжному. – Ну что я могу сказать? Топор войны явно зарыт в землю. Таким знакомством должно не только дорожить, но и даже гордиться. – Сермяжный при этом комплименте откровенно приосанился. – Пожалуй, и я, – добавил Охотников с конфузливым вздохом, – стану отныне гордиться, что некогда сидел в яме Мюратовой и выслушивал от него многие поношения русскому офицерству вообще и себе – в частности. Уж не написать ли мне об сем мемуары, как водится нынче среди ушедших в отставку? В самом деле – подать прошение да и засесть за перо! Опишу я в сих мемуарах также и новоселье, на кое пригласил меня господин помощник французского консула… А кстати, Сермяжный, – вновь повернулся Охотников к гостю, – не посвятил ли вас господин Мюрат в подробности именно той пиесы о Карагезе, кою будут разыгрывать в его доме? Не простерлась ли его к вам благосклонность до такой степени?
– Не стану скрывать, что простерлась, – важно кивнул Сермяжный. – И о сюжете «Свадьбы Карагеза» я осведомлен. Ежели желаете, сообщу о нем вам, – проговорил он, и вновь Казанцеву послышалось тайное возбуждение в голосе ремонтера.
Александр Петрович призадумался… Что-то было здесь странное, в этой внезапной встрече Мюрата и Сермяжного, в готовности последнего доставить приглашение Охотникову, с которым он расстался даже не на ножах, как говорится, а на пистолетах, в словоохотливости Сермяжного и особенно – в его неожиданной осведомленности о многих тонкостях восточной жизни. Неужели Охотников не чувствует во всем этом подвоха, который он сам, Казанцев, увы, чуять-то чуял, но никак не мог разгадать?!