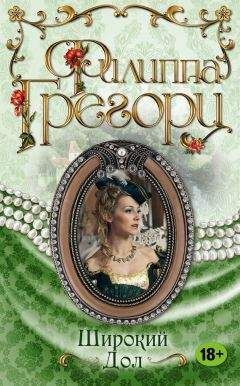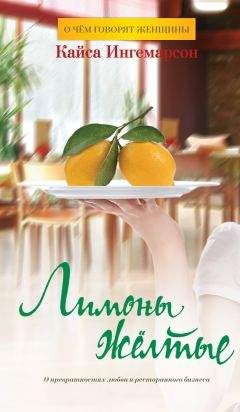Я смотрела на Селию, надеясь, что на лице моем не отражается чувств, бушующих в моей душе. Всюду, куда бы я ни пошла, я, казалось, слышала эхо ее слов: все в Широком Доле делалось неправильно, преступно неправильно. Тогда как сама я считала – вынуждена была считать! – что все идет как надо. И теперь, с полусотней кремешков у моих ног, я могла лишь молча смотреть на Селию, упрекавшую себя за то, что позволила печали и горю обрушиться на мою землю, и на разъяренного Гарри. И, конечно, на Джона, который все это время не сводил с меня глаз.
– Один подарочек ты пропустила, – тихо напомнил он. – Это не камень, это просто корзиночка.
– Ой, да! – с надеждой воскликнула Селия. – Такая хорошенькая маленькая корзиночка! Деревенские дети такие часто плетут из тростника.
Я тупо смотрела на корзинку. Это, конечно же, работа Ральфа. Этого я и ждала. И теперь корзиночка стояла передо мной на столе, и я, глядя на нее потемневшими глазами, заметила, что ловкие пальцы Ральфа ни на йоту не утратили былого мастерства, даже если сам он лишился возможности ходить, бегать и прыгать. Корзиночка была сплетена безупречно. Он не пожалел времени и труда, чтобы эта очередная угроза внешне выглядела по-настоящему красиво.
– Ты сама посмотри, что там, Селия, – сказала я. – Мне не хочется.
– Ты уверена? – спросила она. – Там не может быть ничего плохого. Ты только посмотри, сколько труда вложено в одну только эту крышечку! А какой изысканный крошечный замочек к ней приделан! – Селия оттянула крошечный кусочек дерева, служивший щеколдой, и замочек открылся. Она приподняла пальцами крышечку и раздвинула солому, которой была набита корзиночка.
– Как странно, – удивленно сказала она.
Я ожидала, что там будет фарфоровая сова, такая же, как в прошлый раз. Или еще что-нибудь похуже, вроде маленького капкана или фигурки черной лошади. Но все оказалось еще страшнее.
Я несколько месяцев держала себя в руках, зная, что близится день моего рождения, и чувствуя, что Ральф где-то неподалеку. Я ожидала от него какого-нибудь знака. Какой-нибудь зашифрованной угрозы. И воображала себе самые разнообразные ее формы. Но такого я не ожидала.
– Пороховница? – удивился Джон. – Зачем кому-то посылать тебе пороховницу, Беатрис?
Я глубоко, судорожно вздохнула и посмотрела на Гарри. Этот пухлый напыщенный болван был сейчас моей единственной помощью и опорой в ненавидящем меня мире, который я сама же и создала.
– Это Браковщик! – с отчаянием сказала я. – Он посылает мне это, чтобы предупредить, что намерен сжечь нашу усадьбу. Что он скоро сюда явится. – И я потянулась к Гарри с таким отчаянием, словно меня захлестнуло бурным течением Фенни и вода уже смыкается у меня над головой, только Гарри почему-то на месте не оказалось. А перед глазами у меня снова возник тот густой туман, и он наполнил мою голову, и на этот раз он оказался вовсе не холодным и влажным, а страшно горячим.
И пахло от него дымом.
Я льнула к своей постели, точно какая-то чахоточная лондонская мисс. А что еще я могла придумать? Мне было страшно. Я боялась своей деревни, я ненавидела ее людей, я не хотела больше туда ездить. И того, как бьется сердце моей родной земли, я больше не слышала, а значит, ее леса и холмы не могли служить мне утешением. Я знала, чувствовала: где-то там, в тайной лощине, прячется Ральф и следит за нашим домом горячими черными глазами. И ждет меня. Мой кабинет, мои карты, мой круглый стол для сбора налогов, мои ящики, набитые счетами, – все это просто топливо для огромного костра, который вспыхнет, как только к нему поднесут пороховницу. А самой мне даже вызов было некому бросить, так что я предпочитала прятаться в постели. Я лежала на спине, глядя на резной балдахин над головой, на великое изобилие фруктов, цветов и животных, и страстно мечтала о такой вот далекой стране, где все растет и цветет, где всем позволено сколько угодно есть, пить и веселиться и никто никого не заставляет голодать. И я понимала – каким-то тайным уголком своей отчаявшейся души, – что Широкий Дол как раз и был когда-то такой страной, но потом я сошла с ума, и потеряла себя, и перестала слышать биение его сердца, и утратила его любовь. Утратила все. Единственное, что у меня еще осталось, за что я цеплялась из последних сил, – это мое будущее, Ричард и Джулия, и, возможно, тот новый мир, который они сумеют построить. Если, конечно, я сохраню для них Широкий Дол, если смогу передать его им. Потому что сама я в любом случае пропала.
В доме со мной обращались, как с тяжело больной. Повариха выдумывала нежнейшие и вкуснейшие лакомства, пытаясь меня соблазнить, но есть мне совершенно не хотелось. Да и откуда было взяться у меня аппетиту? С аппетитом я ела в те дни, когда, точно цыганка, целыми днями бродила по этой земле и приходила домой усталая, как собака, и страшно голодная. Мне регулярно приносили Ричарда, но ему совсем не хотелось спокойно сидеть рядом со мной на постели, а тот шум, который он в итоге поднимал, вызывал у меня головные боли. Селия часами просиживала возле меня – то шила, устроившись на подоконнике, где ее головку золотили лучи теплого майского солнышка, то читала какую-нибудь книгу, и в моей спальне устанавливалась замечательная дружелюбная тишина. Раза два в день заходил Гарри, неуклюже ступая на цыпочках; он приносил мне то веточку цветущего боярышника, то букетик колокольчиков. И Джон тоже заходил, совершая врачебный утренний и вечерний обход, и внимательно смотрел на меня холодными глазами. И пузырек настойки опия, который он приносил, если я об этом просила, и некое странное выражение в его бледно-голубых глазах – все это было сродни жалости.
Его теперешняя деятельность была направлена против меня, и я это знала. Для этого мне не нужно было ни красть его письма, ни проверять его счета. Он постоянно поддерживал связь со своим отцом и его строгими и проницательными шотландскими юристами, которые пытались отыскать хотя бы какую-то возможность вернуть назад то, что еще осталось от его состояния. Они также выясняли, нельзя ли лишить моего сына наследства. Но я была уверена: тут все завязано крепко, на совесть. В этом отношении я вполне доверяла своим юристам, которые сковали такой договор, который могут расторгнуть только те, кто его подписал. И пока я была способна держать Гарри в кулаке, Широкий Дол пребывал в безопасности и ждал моего сына. И Джон ничего не мог со мной поделать. Но он хотя бы перестал ненавидеть меня в те майские дни, когда я, больная, лежала в постели и все время спала. Он все-таки был слишком хорошим врачом. Все, что он мог, все, что заставляли его делать характер, склонности, профессия и привычки, – это с тревогой наблюдать за мной, отмечая и бледность лица, и темные круги под глазами, и мой безразличный, невидящий взгляд, прикованный к своду деревянного балдахина.