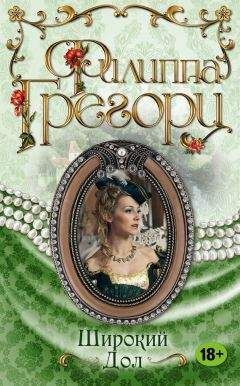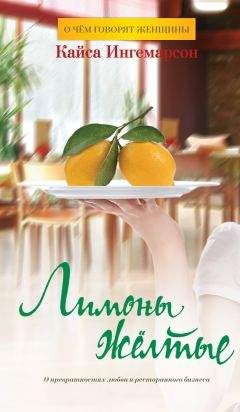Под подушкой я прятала две вещи, и одной из них была тяжелая квадратная пороховница. Собственно, я все из нее вынула, потому что теперь панически боялась пожара и каждый вечер умоляла Гарри непременно обойти все комнаты в доме и проверить, хорошо ли потушены камины. В пороховнице я теперь хранила горсть земли Широкого Дола, завернутую в бумагу для папильоток. Это была та самая земля, которую я сжимала в руке, когда, заманив Ральфа в капкан, вернулась домой, не помня себя и вся дрожа. Все эти годы я хранила эту горсть земли на дне своей шкатулки с драгоценностями и теперь переложила ее в ту пороховницу, которую прислал мне Браковщик. Ральф. Если бы я действительно была настоящей ведьмой, как меня называли в деревне, я бы непременно сотворила с помощью этих вещей магическое заклятие, и вновь стала бы юной девушкой, и ничего этого – ни этой боли, ни этого голода, ни этих смертей – не случилось бы вовсе.
Я лежала, точно заколдованная принцесса из сказки, и наяву грезила о смерти. Но Селия, жалостливая, всегда всем и все готовая простить, придумала нехитрый способ, чтобы соблазнить меня и выманить из постели.
– Гарри говорит, что пшеница выглядит очень хорошо, – сказала она как-то утром в конце мая, сидя на подоконнике у меня в спальне и глядя на розы в саду, на выгон, простирающийся до опушки леса, и на далекие высокие холмы.
– Да? – лениво переспросила я и даже головы не повернула. Надо мной была резная крыша балдахина, где пшеница стояла стеной, на лугу паслись жирные овцы и коровы с телятами и в саду было великое множество фруктов, а из огромной закрученной раковины рекой лилось пшеничное зерно. Резьбу сделали специально, чтобы благословить хозяина этой земли и чтобы она постоянно напоминала ему, как плодородна и легка в обработке его земля.
– Она очень красивая, такая высокая, серебристо-зеленая, – продолжала Селия. Ее слова с трудом пробивались сквозь туман, которым полна была моя голова, но все же я уже начинала представлять себе простор полей созревающей пшеницы.
– Да, правда, – сказала я уже с некоторым интересом.
– Гарри говорит, что и на Дубовом лугу, и на Норманнском пшеница выросла такая, какой еще во всей стране не видали. Колосья огромные, толстые, а стебли прямые и очень высокие, – сказала Селия, не сводя глаз с моего просветлевшего лица.
– А на общинном поле? – спросила я, немного приподнявшись и повернувшись к ней.
– Там тоже все очень хорошо. Гарри говорит, что там много солнца, так что пшеница рано созреет.
– А на тех новых полях, которые мы огородили? На склонах холмов? – спросила я.
– Не знаю, – уклончиво ответила Селия. – Гарри не говорил. Да и вряд ли он в такую даль ездил.
– Какая там даль! – возмущенно воскликнула я. – Да ему туда каждый день ездить было нужно! Эти чертовы пастухи – такие лентяи, совсем за овцами не смотрят. А овцы в любой момент могут все посевы под корень сожрать, и пастухи станут доказывать, что склоны холмов и надо было овцам оставить. Я уж не говорю о кроликах и оленях. Гарри каждый божий день следовало проверять ограды вокруг новых пшеничных полей!
– Да, он, пожалуй, плохо за ними смотрел, – искренне признала Селия. – Вот если бы ты сама смогла туда съездить и посмотреть…
– Я и поеду! – тут же заявила я и немедленно, откинув одеяло, вскочила с постели. Однако три долгих недели, проведенные в кровати, сделали свое дело: голова у меня закружилась, и я чуть не упала, но Селия успела меня подхватить. Она снова меня уложила, позвонила Люси, и они вдвоем торжественно приготовили для меня мою светло-серую амазонку.
– Разве мне не следует пока что ходить в черном? – спросила я, не решаясь надеть хорошенькое светлое платье.
– Уже почти год прошел, – сказала Селия, чуть помедлив. – Разумеется, не хотелось бы, чтобы нас обвинили в недостатке внимания к покойной, но сейчас слишком жарко для черного бархатного платья. И потом, Беатрис, ты всегда так прелестно выглядишь в сером! Надень его. Ты же, в конце концов, не собираешься выезжать за пределы поместья. В легком шелке тебе будет гораздо приятней.
Меня не нужно было уговаривать; я с наслаждением нырнула в легкую шелковую юбку и застегнула изящный жакет. Люси принесла из гардеробной маленькую бархатную шляпку, очень хорошо подходившую к этому наряду, и я, небрежно заправив под нее свои рыжевато-каштановые кудри, надежно ее приколола. Селия слегка вздохнула, глядя, как я верчусь перед зеркалом.
– Беатрис, ты такая красивая! – искренне восхитилась она, и я еще раз с интересом посмотрела на себя.
На меня глянули знакомые зеленые глаза; губы изогнулись в привычной насмешливой улыбке. Становясь старше и тверже характером, я утратила ту волшебную прелесть, которая была мне свойственна в те годы, когда меня любил Ральф. Тогда моя красота была подобна солнечному лучу в темном амбаре. Но даже новые легкие морщинки у губ и на лбу, возникшие, потому что я часто хмурилась, не украли у меня мою красоту; такие женщины, как я, с тонкими хрупкими костями, красивой фигурой и гладкой, сияющей кожей остаются красавицами до самой смерти. Ничто моей красоты у меня не украдет, хотя она уже претерпела определенные изменения: в ней прибавилось горечи. Новые морщинки не в счет, но с новым выражением лица приходилось считаться.
Не обращая внимания на Люси и Селию, я подошла еще ближе к зеркалу, так что оба мои лица, отраженное и настоящее, оказались всего в нескольких дюймах друг от друга. Кости, волосы, кожа – все было поистине идеально, как и прежде. А вот выражение лица стало иным. Когда меня любил Ральф, мое лицо было открытым, как чашечка полевого мака летним утром. Когда я сама страстно влюбилась в Гарри и возжелала его, то даже эта порочная тайна не затуманила моих глаз. Даже когда Джон ходил за мной по пятам, и ухаживал за мной, и приносил мне шаль, и сам накидывал ее мне на плечи после очередного танца, глаза мои сияли так же и улыбка у меня на устах была такой же теплой. И я видела, как замирает сердце Джона, стоит ему на меня посмотреть. Но теперь глаза мои были холодны. Даже когда я улыбалась или даже смеялась, глаза мои оставались холодными и острыми, как осколки зеленого стекла. И лицо мое словно замкнулось, тая те секреты, которые я была вынуждена хранить. И форма рта немного изменилась, потому что губы мои были постоянно напряженно сжаты, даже когда я отдыхала. А морщинки на лбу появились из-за того, что я часто хмурилась. Я с удивлением обнаружила, что к старости у меня будет лицо всем недовольной женщины и невозможно будет предположить, глядя на меня, что у меня было самое лучшее детство на свете, а моя жизнь взрослой женщины была исполнена власти и страсти. Сама-то я могла сколько угодно считать, что жизнь подарила мне немало разнообразных наслаждений, но мое лицо, когда мне будет сорок, скажет людям, что я прожила нелегкую жизнь и за все полученные удовольствия мне пришлось расплатиться сторицей.