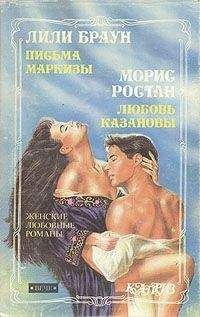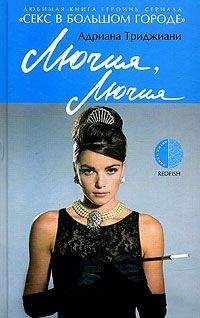И вдруг эта равнодушная женщина, покусывающая цветок, небрежно облокотясь на ресторанный стол, без признака волнения выслушивает его любовные объяснения.
Он никогда еще не тратил слов даром. Даже Анжела бледнела, слушая его, и ему с ней помешал только случай. Неужели Протэ не знает, что значит имя Казановы? Неужели она не понимает, какую честь он оказывает ей, избирая ее одну из тысячи?
Протэ остается равнодушной. На каждую мольбу Казановы, на каждый жест, на каждую угрозу — она отвечает улыбкой…
И эта улыбка защищает, бронирует ее больше, чем все жесточайшее сопротивление, какое она могла бы высказать ему. Он, знающий, какое согласие иногда бурлит под отказом, чувствует, что здесь отказ окончателен, что эта улыбка, так ясно говорящая «нет», никогда не скажет «да». Он чувствует, что, позволь он только себе несколько смелый жест, Протэ прикажет подать свою меховую шубу и исчезнет, бледная и зябкая, в холоде петербургской ночи.
Может ли быть, чтобы он был ей безразличен? Не антипатичен, не страшен, а безразличен, что гораздо хуже? Не волнующе жуток, как он был сначала для Клементины или для сестры Лукреции, но просто безразличен, неинтересен, как любой встречный, первый попавшийся прохожий, не имеющий за собою всего этого любовного прошлого, этой легенды, всюду сопровождающей его!
Неужели она не знает, кто такой Казанова, эта маленькая русская танцовщица, не подозревает, какую милость оказывает он ей своим увлечением, как она благодаря ему становится значительной, до какой степени ее имя становится достоянием веков, — хочет она этого или нет, — унесенное в потоке его славы!
…Ей все равно. Протэ поднимается. Она берет из рук напудренного лакея широкое меховое манто, в которое она кутается, выходя из театра, она уходит… Она больше не вернется! Она все еще улыбается. К ее розовым устам прильнул лепесток цветка, который она все время покусывала.
Зиновьев и все другие, развалившиеся на подушках диванов, слышали ли их разговор? Его мольбы, ее отказ? Знают ли они, что Протэ ни на минуту не взволновалась, что ни на миг не похолодели в его руках доверчиво отдавшиеся им ручки танцовщицы?
Знают ли они, что она уедет, не подарив ему ничего, ни поцелуя, ни бледности, ни свидания?
Как! Неужели же его очарование стареет? Неужели он больше уже не тот неуязвимый соблазнитель, тот Бог любви, что раньше? Единственный атеист, отрицающий его, вдруг лишает его всей его гордости. Прочная стена из женщин, на которую он опирается, готова рухнуть от одной этой равнодушной улыбки, дразнящей его, покусывая цветок.
Он спускается с ней по лестнице, в холод, в ночь! Они на воздухе, в холодном молчании зимней ночи, нарушаемой лишь чьей-то далекой монотонной песней, нервирующей своим однообразием. Он вскочит в сани рядом с ней! Он не может вынести подобного афронта — чтобы какой-то нелепый отказ в одну секунду разрушил все обаяние его славы, все то, что делает его единственным в собственных глазах! Нет! Он овладеет этой Протэ, как и остальными, как всеми остальными!
Дрожа от холода, она плотнее укутала свои обнаженные плечи в мех. В неверном ночном свете лицо ее кажется странно голубоватым, точно нарумяненным какими-то необычайными румянами.
Казанова помогает ей усесться в сани. Кучер сам укутывает ей ноги меховой полостью. Простым жестом она дает ему понять, что желает ехать одна… И в то время, как он весь трепетал непременным намерением всего добиться от нее, она пригвождает его к месту на облитой лунным светом мостовой — одной своей улыбкой.
…Может быть, с нее довольно было одного взгляда Казановы? Может быть, она предпочла очарование этой минуты слишком грубой реализации ее? Может быть, она любит другого тем могучим чувством, которое заставляет все другие казаться шуткой?
Казанова ничего не понимал. Зачем же она в таком случае приняла приглашение на ужин? Зачем она была особенно красива? Так красива, что несомненно это не могло быть совершенно неумышленно с ее стороны, какое-то особое старание… Протэ уже сделала кучеру знак ехать…
Нет, она не расстанется с ним так! В последнюю минуту она в одном беглом взгляде даст ему обещание всего того, в чем отказали ему ее уста… Сани скрываются из глаз, далеко на Неве обрывается монотонная песня… Протэ исчезла, не открыв своей тайны, да может быть, нечего и открывать было!
* * *
Но разочарования Казановы никогда не продолжаются долго. Бесцельно проведенный вечер, отданный непреклонной женщине, — целый вечер! — уж и этого слишком много для этого торопливого сердца, и на другой же день, желая развлечь свою ошибшуюся любовь, он во время прогулки с Зиновьевым покупает за сто рублей у отца маленькую тринадцатилетнюю девочку, из которой он делает любовницу и рабу!..
Бедная маленькая дикарка, русская Психея, обнаженное тело которой напоминало статую Психеи с виллы Боргезе, какая прелесть в твоей истории… Но прелесть печальная… словно предвкушение страдания, словно непривычный намек на грусть!..
Казанова прогуливается с Зиновьевым в лесу и встречает там девочку редкой красоты и чрезвычайно пугливую: при их виде она обращается в бегство. Они идут за ней следом и попадают в хижину, где находят всю семью. Хорошенькая девочка забилась в угол и со страхом смотрела на них оттуда, как беленькая голубка на волков.
Зиновьев завязал разговор с отцом. Казанова понял, что дело идет о девочке, потому что по знаку отца бедняжка покорно подошла к ним. Через несколько минут они ушли из хижины, оставив немного денег детям. И тут Зиновьев сообщил ему, что он предложил отцу продать ему девочку в услужение и что тот согласился.
Но тогда Казанова попросил уступить девочку ему. Он купил ее за сто рублей. Вернувшись в Петербург и подписав запродажное условие, он на целых четыре дня запирается со своим новым приобретением: отмывает ее, как только возможно, и одевает по французской моде. Она была бела, как снег ее родины, а волосы черные, как у неаполитанки, еще больше выделяли нежность ее розового цвета лица. Прелестная, как Психея с виллы Боргезе, она походила на нее и своей сладостной мягкостью, грацией вместе и чистой, и земной.
Конечно, в начале беседы Казановы с его русской были довольно незначительны: им приходилось объясняться жестами, а это в конце концов утомительно и приятно, только в некоторые минуты.
Пылкая, как кобылица пустыни, преждевременно развитая девочка в восторге от взаимных ласк, иногда твердила ему какие-то странные слова, звук которых во всякое другое время заставил бы его рассмеяться.
Но, к счастью, способная ученица в какие-нибудь два месяца уже знала достаточно по-итальянски, чтобы разговаривать с ним. Вот когда ее нежность превратилась в какое-то безумие.