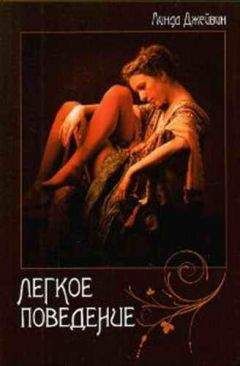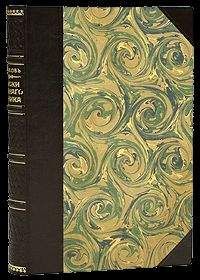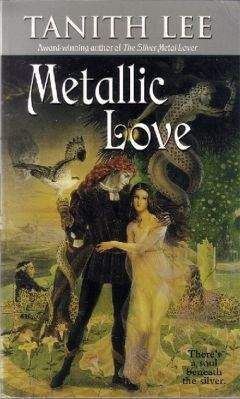— А наш Джеймсон-то влюбился.
— Да ты что? — изумился Дюма. — И кто же эта счастливица?
— Мисс Мэй Перкинс, — с готовностью ответил хозяин дома.
— О, в самом деле? — жизнерадостно воскликнул Дюма. Суда по тому, как вздернулись его брови, он сильно сомневался в шансах Джеймсона.
— Сущая правда, — подтвердил Моррисон с той же скорбью, с какой евнух разглядывает свое «достоинство».
Дюма дернул головой. Улыбка на его губах померкла.
— Джеймсон говорит, что девушка — настоящая нимфоманка. И вроде бы он сам в этом убедился.
Дюма насторожился:
— Так это же замечательно, вы не находите?
— Она та еще кокетка. — Кивая и улыбаясь, как кот, проглотивший канарейку, Джеймсон закинул в рот вишенку. — Сведет с ума любого. — Следом за вишней в рот отправился его палец, принявшийся подправлять вставные зубы. — И такая очаровательная родинка повыше левой подвздошной кости. — Словно подразумевая, что другие не в курсе таких анатомических подробностей, он ткнул себе в живот, показывая место, где можно отыскать такую кость у него, правда, если только при вскрытии.
Моррисона переполнило такой жгучей яростью, что он даже не стал дожидаться, когда подожгут бренди в бокале. Он глубоко вдохнул и посчитал про себя до десяти, прежде чем поднял тост:
— За мисс Перкинс. — Эту маленькую куртизанку. Проститутку. Шлюху.
— За мисс Перкинс, — хором отозвались мужчины.
Глава, в которой наш герой переживает чертовски тупой день, но красота возвращает его к жизни, а чувство долга расстраивает планы
На следующее утро Моррисон проснулся с отвращением к солнечному свету и тупой головной болью после вчерашних алкогольных излишеств и открытий. Он с отчаянием, а потом и со злостью подумал о Мэй и Джеймсоне. Как она могла? Он приказал себе выбросить ее из головы. С Мэй покончено. Урок усвоен. В конце концов, он занятой человек. И у него полно других, более важных дел, чем страдания по американской потаскушке с таким дурным вкусом, что она польстилась на Джеймсона. Да, она была потрясающе хороша и опытна в постели, как любая проститутка. Но все это меркло на фоне двуличия и предательства — да еще при полном отсутствии вкуса. Джеймсон? Моррисон был близок с ней лишь однажды. И они не были помолвлены. Слава тебе, Господи!
Нет, подумал он. Это невозможно, я не верю в то, что она била с Джеймсоном так же, как была со мной. И тем не менее эта родинка… Возможно, она упоминала о ней в разговоре с Джеймсоном. Ведь Мэй болтушка, да еще такая раскованная, и, несмотря на материнские запреты, в душе остается актрисой. Она могла брякнуть про родинку ради пущего эффекта — совсем как в тот вечер, когда после ужина повергла всех в шок своим заявлением о тайном желании выйти замуж за аборигена. Как у бы не было ему больно думать о том, что Мэй могла открыть столь сокровенную подробность недостойному слушателю, он пришел к выводу, что свалял дурака, поверив Джеймсону на слово. Ведь всем было известно, что Джеймсон отъявленный лгун, а Моррисон оскорбил Мэй своими подозрениями!
Он спрыгнул с кровати и умылся холодной водой. Потом с взъерошенными волосами и мыслями бросился в свой кабинет.
Открыв ящик секретера, Моррисон схватил письмо, которое получил накануне, перечитал и облегченно улыбнулся. Разгладил лист бумаги, окунул в чернильницу перо… В своем сладостном ответном письме он целовал Мэй от ладошек до изгиба локтей, гладил ее волосы, крепко прижимал к себе, называл «моя дорогая Майзи» и умолял хранить ему верность. В конце он добавил несколько едких острот в адрес Джеймсона, справился о ее здоровье и передал наилучшие пожелания Рэгсдейлам. Запечатав конверт воском и скрепив своей печатью, Моррисон отослал Куана на почту. Отныне он не собирался доверять свои письма ненадежным почтальонам — таково было его твердое намерение.
День прошел в рабочей суете, как всегда бывало, когда Моррисон собирал материал для очередной телеграммы в «Таймс». Ходили слухи, что японцы бомбят Владивосток. Моррисон провел переговоры с японскими дипломатами и военными атташе, каждый из которых знал о текущих событиях меньше, чем предыдущий собеседник. Когда он попробовал проверить информацию Грейнджера у японского военного атташе, полковника Доки, ответ последнего уместился в одном слове, звучавшем одинаково пренебрежительно на всех языках: «Утка!»
В тот же день от Грейнджера пришла новая телеграмма с инструкциями: «Скажи, что сведения получены из надежного источника, но не от меня и не от Ньючанга».
Профессиональная непригодность Грейнджера бесила Моррисона. Именно надежность была залогом их успешной работы. Чтобы правильно оценивать ситуацию, необходимо было опираться на факты. В этом смысле он не мог полагаться на бестолкового Грейнджера. Это было равносильно тому, чтобы доверять россказням зловредного Джеймсона о Мэй. «Вся моя информация исходит из надежных источников, иначе я бы не отсылал ее», — пробормотал он себе под нос, отправляя в огонь фантазии Грейнджера.
Он как раз ставил кочергу на место, когда в кабинет вошел Куан с новой телеграммой, теперь уже от Лайонела Джеймса. Усаживаясь с ней за стол, Моррисон вдруг увидел себя Гулливером в стране лилипутов, связанным по рукам и ногам маленькими человечками. Боже правый… Сообщение Джеймса, предназначенное для публикации, изобиловало новостями и слухами о текущих и предстоящих передвижениях японской армии. Моррисон был возмущен столь очевидным отсутствием проницательности, тем более у корреспондента, который был участником боевых сражений в ходе англо-бурской войны и конфликта в Судане. С каким удовольствием смаковали бы эту информацию русские! Скомканная телеграмма Джеймса полетела в огонь вслед за писаниной Грейнджера.
На стороне молодых — Грейнджера, Джеймса, да и Игана — тоже была сила; Моррисон готов был это признать. Но прозорливость, рассудительность, хладнокровие и мудрость все-таки были привилегией возраста.
Близилась ночь, а Моррисон все мучился сомнениями, стоит ли написать Мэй еще одно письмо. Он и сам не мог сказать, почему так отчаянно сопротивляется этому желанию. Гордость, побуждавшая его к действию, одновременно призывала сделать паузу. Клевета Джеймсона разбередила ему душу куда сильнее, чем он хотел бы в этом признаться.
На следующее утро Моррисон нацепил фетровую шляпу, накинул плащ и отправился по пыльным улицам к Вратам небесного спокойствия. Выйдя из ворот, он окунулся в привычную суету Южного города. Здесь все было проникнуто духом предпринимательства — начиная от приютившихся в переулках цирюлен, Контор переписчиков и гадалок и заканчивая шумными магазинами. Фасады домов пестрели вывесками, стилизованными под предлагаемый товар, — деревянные расчески, декоративные виноградные лозы, сосуды под вино, подошвы мужских ботинок. Из аптеки, где торговали травами, на улицу просачивались таинственные запахи китайской медицины. Из чайной вырывалось стаккато местных болтунов, а на Полишинг-стрит, перед чайным павильоном Хэвенли Хэппи, уже собиралась толпа зевак, чтобы посмотреть движущиеся картинки — «электрические тени» — на оборудовании, привезенном аж из Германии. Дальше к югу простирался район Небесного моста, знаменитый своими борделями — «приютами поющих девочек» — и бандами оборванцев, которые умудрялись избавить прохожего от часов и кошелька, прежде чем тот успевал заметить их приближение.