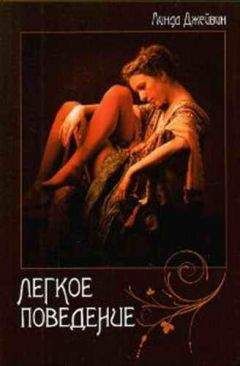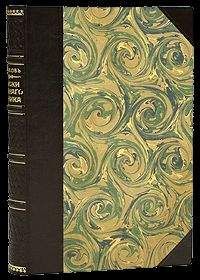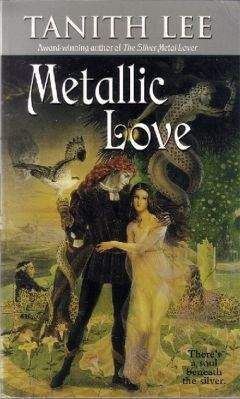— Тибетская экспедиция проведена исключительно в интересах Китая, — возразил ему Моррисон. — Как вы знаете, Российская империя пытается взять в кольцо британскую Индию. Если им это удастся, ни одна из наших стран не выиграет. В то же время Далай-лама XIII столь дружески настроен к России, что держит у себя русского советника. Ходят упорные слухи, будто китайский императорский двор подумывает о том, чтобы разрешить ему впустить в Тибет русских. Англия не хочет, чтобы Тибет оставался дикой и варварской страной без правителя. Но точно так же не хочет видеть Тибет вотчиной царской империи. Нет, он должен стать еще одной провинцией Китая, управляемой так же, как Юньнань и Сычуань.
Кван перевел сказанное Хвану, после чего передал ответ:
— Англия действительно не имеет территориальных Притязаний на Тибет?
— Мы не возьмем и пяди тибетской земли. Только Китай должен сделать Тибет сильным.
— Поправьте меня, если я ошибаюсь, — сказал Кван после долгой паузы, — но я припоминаю, что в 1900 году мистер Янгхазбенд[16] написал письмо в вашу уважаемую газету. Я прочитал его и заучил наизусть — этот навык остался у меня после изучения китайских классиков. Если позволите, я бы хотел процитировать одну строчку этого письма, которую никогда не забуду…
Моррисон кивнул, стиснув зубы в ожидании неизбежного. Он прекрасно знал, что ему предстоит сейчас услышать.
— Так вот он сказал, я цитирую: «Земля слишком мала, а территория, которую они занимают, слишком велика и богата, и в нынешнюю эпоху, когда межнациональное общение так тесно, нельзя позволить китайцам держать Китай при себе». — Кван перевел эти строки, и хозяин снова обратился к гостю: — Что вы на это скажете, доктор Моррисон?
— Я полагаю, — произнес Моррисон тоном, не допускающим никаких сомнений, — что межнациональное общение выгодно Китаю в той же степени, что и Британии.
Хван, выслушав перевод, улыбнулся и предложил гостю еще чаю. Моррисон воспринял это как намек на то, что пора уходить.
Чертовски тупой день, думал он, шагая к дому. Но тут его взгляд упал на набухшие лоснящиеся почки ивовых деревьев, на проталины в рукотворных каналах. Воркующая музыка наполняла воздух. Он поднял голову и увидел, что над ним парит стая белых бумажных голубей, — лакированные бамбуковые свистки крепились к их хвостам тонкой медной проволокой. Птицы кружили в ослепительном лазурном небе над сверкающими золотыми крышами императорского дворца. Моррисон почувствовал прилив вдохновения. Недавняя грусть растаяла в лучах весеннего солнца. Он ускорил шаг.
Во дворе своей резиденции он увидел, как в бамбуковой клетке на яблоне щебечет новый жаворонок повара, а золотая рыбка, любимица его слуг, плещется в бело-голубой керамической ванне, гоняясь за стрекозами, порхающими над самой водой. Горшечные орхидеи, заботливо окученные Куаном, вот уже несколько дней ласкали глаз нежными бело-розовыми цветами. Молодая трава прорастала между булыжными камнями и в расщелинах черепицы на крыше. Природа оживала. Моррисон вдруг понял, что больше ни минуты не будет ждать писем и бороться с сомнениями.
— Куан!
Бой вынырнул из дома и поспешил к нему.
— Мы едем в Тяньцзинь.
И тут его настигло разочарование, поскольку Куан протягивал ему телеграмму. Лайонел Джеймсон был на пути в Пекин. Тяньцзинь отменялся. Если приезд Грейнджера ни за что не остановил бы Моррисона, с Джеймсоном, увы, была другая история.
Прошло больше двух недель с той поры, как он встретил мисс Мэй Рут Перкинс, и один месяц с начала русско-японской войны. Оба эти события казались сейчас далекой историей.
Глава, в которой прославленный военный корреспондент описывает схватку с тофу, а Моррисон вступает в ряды борцов за будущее журналистики
Итак, мы в Иокогаме, в комнате со стенами из зубочисток и бумаги, я сижу разутый. Не могу сказать, что все это мне по душе. Мы сидим по-турецки. Ноги ноют, сил нет. Бринкли сует мне под нос какие-то странные блюда. Я не узнаю, что за продукты передо мной. Все очень изысканно, но съедобным не выглядит.
— Вот это еда. — Лайонел Джеймс показал на свою тарелку с отварной бараниной под каперсовым соусом. — Знаешь, с чем я сравниваю все эти суши-сашими? С обрывками информации о войне, которые японское правительство подсовывает корреспондентам вместо того, чтобы допустить их на фронт. Красивая упаковка, а сущность никчемная. Впрочем, нашего коллегу Бринкли это ничуть не смущает. Я имею в виду, ни качество информации, ни качество еды. Наш человек в Японии стал настоящим аборигеном. Лопочет по-японски, ест сырую рыбу палочками, взял себе в жены миниатюрную японочку. Он уверяет меня, что японцы — великие эстеты, и гордится достижениями своей приемной родины больше, чем своими собственными.
Подталкивает ко мне блюдо. На нем лежит нечто похожее на мокрые шнурки от ботинок какого-то эльфа. «Морские водоросли», — поясняет он, как будто это должно стимулировать мой аппетит. Потом заставляет меня съесть нечто вроде молочного брикета. Он разваливается, когда я цепляю его вилкой, и вкус у него какой-то мокрый. Бринкли говорит, что белка в этой дряни больше, чем в отбивной. И вот тогда мне становится ясно, что он уже прошел критическую точку и обратного пути нет. Видит Бог, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы вернуть его к обсуждению интересующей нас темы.
— Ты видел его жену? — спросил Моррисон.
— Нет. Но слышал, что она дивно хороша.
— Это точно. Интересно наблюдать за этой парочкой, потому что многое становится понятным в Бринкли. Внешне она производит впечатление слабой и хрупкой дамочки, во всем подчиняющейся своему мужу. На самом деле это она ведет его по жизни, как здешние фермеры водят быков за кольцо в носу. А наш коллега-подкаблучник подчиняется ей — и ее стране — с той же преданностью, что Мохаммед Аллаху. Я так понимаю, что твой план вести репортажи с места боевых действий приводит его в дрожь, хотя он и маскирует свои страхи приобретенной восточной уклончивостью.
— Я не понимаю, чего он так боится! Мой план — просто находка и для нашего работодателя, и для всей журналистики! — Джеймс стукнул кулаком по столу. Заплясала посуда. Куан заглянул проверить, все ли в порядке. — Извини, старина. — Гость понял, что погорячился.
Когда Моррисон описывал Джеймса Дюма, он упоминал о твердом характере парня. Но совершенно упустил из виду, что другой отличительной чертой его коллеги была чрезмерная эмоциональность.
— Джордж Эрнест, — продолжил Джеймс, — я вел репортажи из Африки и Индии. Доставлял свои отчеты голубиной почтой, на верблюдах и лошадях, гелиографами, бутылками, полевым телеграфом, кораблями, головорезами-пуштунами, длинноногими эфиопами. Смешно в наш век, век беспроволочного телеграфа, жить по старинке и к тому же так рисковать. Наши паровые прессы могут печатать сотни тысяч газет в час. Но что толку, если они будут печатать устаревшие новости? — Он собрался было снова обрушиться на стол с кулаками, но вовремя одумался. — Читатель заслуживает лучшего. Мы заслуживаем лучшего. Будущее журналистики связано с радиоволнами.