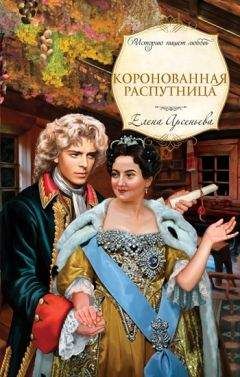Если он должен был убить ее, тогда почему не сделал это сразу?
И тут Катерину осенило. Иоганн не убил ее, потому что ждал Виллима. Он хотел забрать у того подметное письмо.
То письмо, которое он потом сжег… Почему? Какая опасность была для него в том письме?
Да такая, что он слышал, как Виллим упомянул, что хочет отыскать того аккуратиста, который выманил его в этот дом своим письмом…
А ведь своим почерком Иоганн был славен еще в былые годы! Вот почему он поспешил сжечь письмо. Чтобы к нему никто не нашел дороги. Чтобы его никто не заподозрил.
Но неужели… неужели сам Иоганн задумал эту ужасную интригу? Нет, он был слишком недалек… Он не мог быть так хитер! Он всегда, всю жизнь, сколько его знала Катерина, был либо игрушкой в чужих руках, либо действовал по первому побуждению. Вот и нынче вечером. Сначала, повинуясь чужой, недоброй воле, он отправил Виллиму письмо и пришел было убить Катерину. Потом, повинуясь жажде денег и страху перед Петром, помог ей скрыться. А теперь вдруг, побуждаемый похотью, забыл обо всем на свете: и об интриге, и о спасении.
– Иоганн, одумайся, – горячо начала Катерина. – Не дури. Спаси меня! Пойдем, выведи меня отсюда!
Но он уже ничего не соображал. Точно таким же – с побелевшими, безумными глазами – Катерина видела его давным-давно в кирхе… А потом появился разгневанный пастор Глюк. И еще раз, когда она жила в палатке Меншикова и Иоганн явился требовать денег, тогда его пришлось прогнать сквозь строй, чтобы остановить.
Катерина понимала, что больше не сможет ничего добиться от него словами. Он просто не слышал их! Кинулся к ней, набросился, пытаясь повалить…
Но это было не так просто. Маленькая, но крепкая, Катерина удержалась на ногах и с силой толкнула Иоганна:
– Пошел вон, дурак!
Повернулась – и кинулась по улочке, повыше подбирая юбки.
Иоганн чуть не упал навзничь, но все же устоял и кинулся за Катериной вновь. Она не могла бежать так быстро, как он, ноги вязли в грязи. И вот Иоганн опять налетел, облапил, пытаясь повалить…
Катерина не давалась. Тогда Иоганн с силой начал гнуть ей голову, пытаясь заставить ее наклониться, потащил к забору. Она поддалась было, сделала вид, что покоряется, но лишь только хватка его ослабела, как она разогнулась, развернулась и оттолкнула Иоганна с такой силой, что он покачнулся.
И тут ноги его скользнули, он начал заваливаться на спину, протягивая руки вперед и снова собираясь схватиться за Катерину. С криком она толкнула его сильней – и Иоганн упал спиной на торчащий из плетня кол.
Раздался хрип, треск – и Катерина увидела этот кол торчащим из его груди. Иоганн несколько раз дернулся и затих.
В конце августа 1698 года в Москву из длительного заграничного путешествия вернулся царь Петр Алексеевич. Пожалуй, он странствовал бы по любезным его сердцу чужестранным землям еще невесть сколько, кабы не выдернула его домой новость о новом стрелецком бунте. Впрочем, когда он вернулся, бунт уже был подавлен боярином Шеиным (сто сорок человек биты кнутом, сто тридцать вздернуты на виселицы), так что им с верным другом Алексашкою осталось всего лишь отвести душу на прочих приговоренных и собственноручно снести несколько горячих стрелецких голов. Лефорт, также бывший среди «великих послов» России в Европе и воротившийся вместе с царем, в сей забаве не участвовал, ибо имел слишком чувствительную душу и видеть не мог, как русский государь, который хвалился, что владеет четырнадцатью ремеслами, осваивает новое: ремесло палача.
Вслед за этим устроена была пирушка, на которой царь страшно рассердился на того же самого Шеина, которого только что крепко целовал в обе щеки и хвалил, и едва не снес голову самому боярину за то, что тот по пьянке проболтался: он-де хорошие денежки берет за высшие воинские чины в своем отряде…. Лефорт с Алексашкою едва спасли Шеина!
Но, раззадорясь, царь долго не мог остановиться и потом, за неимением других предназначенных к отрубанию голов, принялся вгорячах стричь бороды тем боярам, которые попадались под горячую руку. Он твердо решил, что именно с этого начнет наконец полное переустройство России и поведет ее по новому пути: «Учиться у Европы!»
Изменения должны были также свершиться и в жизни самого Петра. Еще из заграницы он в письмах своему дяде Льву Кирилловичу Нарышкину и боярину Тихону Никитичу Стрешневу просил, чтобы склонили его жену к добровольному пострижению в монастырь. Петр хотел обрести свободу от навязанного ему ненавистного брака, чтобы жениться на женщине, которую он вот уже несколько лет любил со всей страстью, на которую только было способно его неистовое сердце. Этой женщиной была Анна Монс. В первую очередь именно к ней – даже раньше, чем рубить головы стрельцам или стричь бороды боярам! – устремился царь, едва оказавшись в Москве. Именно в ее постели провел первую ночь. Именно благодаря ей ощущал враз и приятную истому в теле, и необыкновенное воодушевление, и способность без устали перенести все, все, что угодно! Только бы она всегда была при нем. Только бы он всегда был с ней.
Об этом он мечтал с первой минуты встречи с Анхен.
Очаровательная, в меру сдобная, в меру стройная, светловолосая и голубоглазая, с такими упругими грудями, что они то и дело выскакивали из лифа, словно смеялись над корсетом, с пухлым розовым ротиком, словно созданным для поцелуев, она казалась воплощением невинности и неискушенности. Правда, только на первый, наивный взгляд. А Петр – да, он был наивен и простодушен, даром что с юных лет успел перепробовать великое множество баб и девок. Такое множество, что Вильбуа, лейб-медик юного государя, отзывался о нем чуть ли не с ужасом: «В теле его величества сидит, должно быть, целый легион бесов сладострастия!»
Познать женщин он успел превеликое множество, а вот узнать их так и не смог. За недосугом.
Петр быстро вспыхивал – и моментально остывал. Завалив – вот именно так: общепринятое выражение «затащить в постель» здесь совершенно неуместно, ибо до постели он частенько и дойти-то не мог, одолеваемый неодолимым зудом в чреслах, а потому мгновенно «применялся к местности», как выражаются люди военные, – итак, завалив очередную служанку либо родовитую даму, прачку либо бюргершу, скотницу либо купчиху, попадью либо пасторскую дочь, соотечественницу либо иноземку – без разницы! – молодой царь через час уже не помнил ее лица, ну а об имени просто не успевал осведомиться. Где уж тут задумываться о чувствах! Однако Анна Монс с первого взгляда привела его в то состояние, кое обычно приписывают жене Лота.
Алексашка в ту минуту оказался рядом. Он наблюдал, как вытаращились темные глаза, приоткрылся маленький – бабий, ей-богу! – ротик молодого государя, как встопорщились черные усики, делая лицо Петра похожим на морду мартовского кота, какое ошалелое выражение воцарилось не только в этом лице, но и во всей высоченной, нескладной фигуре, – и восхищенно думал, что пройдоха Лефорт, как всегда, оказался прав.