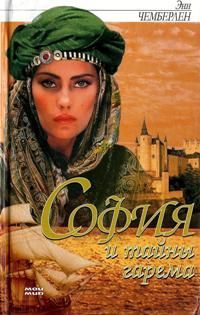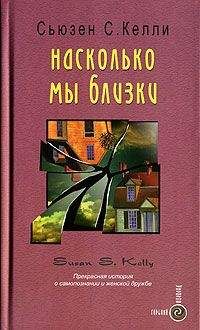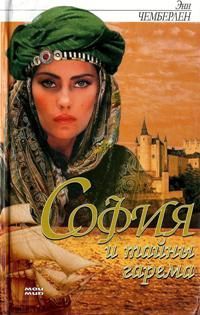Не зная почти ничего о венецианских судах, она приставала с расспросами к Мураду, без конца выпытывая у него названия тех кораблей с венецианским крестом на флагах, что стояли у берега. Ей хотелось знать все — сколько груза они могут перевезти, их мощность и количество пушек и даже сколько людей у них на борту. Сафия жадно ловила каждое слово, заставляла Мурада выяснять, кто капитаны этих судов, а если он, случалось, чего-то не знал, она просила принца даже приглашать корсаров на борт. Укрывшись за пологом во время этой встречи морских волков, чтобы не пропустить ни единого слова, она с вниманием прислушивалась к их разговору, пока судно стояло на якоре.
Потом, уже перед самыми Дарданеллами, Мурад взял ее с собой на берег, и они вдвоем осмотрели два неприступных форта, построенных еще предшественниками принца. Форты с двух сторон охраняли вход в узкую гавань.
— Видишь, тебе нет никакой причины бояться, моя Сафия, — ласково сказал принц, — или забивать свою хорошенькую головку страшными мыслями, опасаясь, что на нашу столицу могут напасть. Теперь ты сама можешь убедиться, что никакое нападение с моря на Константинополь просто невозможно. Он неприступен.
Не ответив ему, Сафия какое-то время еще молча бродила по форту. Она догадывалась, что ее лицо, до самых глаз укутанное вуалью, возбуждает жгучий интерес занятых своим делом мужчин. И вот, наконец, она решилась заговорить о том, что было ясно для нее с самого начала — что она заметила, еще находясь на борту корабля. Впрочем, Сафия еще не решила: с таким же успехом она могла бы оставить эти сведения при себе… или продать капитану первого же галеона венецианцев, который бы попался им по пути.
— Так уж и неприступен? — ехидно прищурившись, переспросила она принца. — Ну, не знаю. Может быть. Только это было давно — еще в те далекие времена, когда те, кто строил эти крепости, надеялись, что стрелы их защитников долетят до палубы корабля.
— А теперь у нас вместо стрел пушки, так что тебе тем более нечего бояться.
— Но ведь у неприятеля тоже есть пушки, не так ли? Давно прошли те дни, когда Мухаммед Великолепный, твой славный предшественник, обрушился всей мощью своих пушек на корабли византийских греков и те со своими стрелами оказались совершенно беззащитны перед ним.
— Но, видишь ли, сладкая моя… — начал Мурад тем же тоном, которым взрослые обычно пытаются втолковать что-то ребенку.
Сафия не обиделась. Если ему это лестно — пусть! Бедняга принц до сих пор не догадывался, что именно ее он должен благодарить за должность губернатора.
— Видишь ли, пушки стреляют ядрами сверху вниз, а это легче, чем кораблям, которые стреляют снизу вверх, — наставительным тоном продолжал объяснять он.
— Примерно так я и думала.
— Что? Не понял…
— Видишь ли, желая добиться того, чтобы стрелы долетели до кораблей, твои предшественники выстроили оба форта как можно ближе к проходу, не позаботившись, чтобы выбрать для их местоположения наиболее высокую точку — тогда бы они господствовали над всем проливом. Взгляни на этот обрыв… И тот, по другую его сторону. Оба голые и уязвимые, точно новорожденные младенцы, к тому же любой, кто спустится по ним вниз, окажется как раз во внутреннем дворе крепости. Все, что потребуется от противника, это поставить сюда пушки. Нелегкая задача, согласна, но вполне возможная, достаточно только выбрать ночь потемнее, и после этого обе твои крепости вместе с проливом окажутся у него в руках.
Взгляд Мурада беспомощно перебегал от одной крепости к другой и вновь возвращался. Он искал доводы, чтобы возразить возлюбленной, и не находил. Не находил, потому что Сафия была права. Она спрятала улыбку. Немного позже девушка помогла Мураду составить султану письмо, в котором он подробно описал все, что видел, — естественно, в таких выражениях, как будто только его собственная исключительная проницательность позволила вовремя обнаружить угрожавшую им опасность, — а также предложил сделать все, чтобы в самое ближайшее время исправить положение.
Уже в Измире Сафие представилась возможность увидеть побережье, некогда опустошенное набегами свирепого Тамерлана. Впрочем, оно и сейчас выглядело так, словно захватчики покинули его только вчера.
Язык не поворачивался назвать эти руины руинами. Горделиво взирая на тех, кто проходил через них, они всем своим видом словно давали понять, что видели много поколений и увидят еще больше, прежде чем безжалостное время наберет достаточно сил, чтобы обратить их в прах. Оставалось только надеяться, и Сафия искренне верила в это, что те, кто придут вслед за ними, отбросят, наконец, ханжескую стыдливость ее современников. Иной раз, правда, случалось, что Мурад принимался ворчать, находя нечто предосудительное в их многочасовых блужданиях по городу. Уж слишком много тут обнаженных фигур, возмущался он. Беломраморные статуи с гладкой кожей и бесстыдной, откровенной красотой бросались в глаза на каждом углу, и Мурад никак не мог взять в толк, как это ни одному из завоевателей, что прошли через город с тех пор, как были высечены статуи, не пришло в голову сбросить их с пьедесталов?! Мраморные идолы явно оскорбляли его представления о прекрасном. Сафия перепугалась не на шутку — она умоляла своего принца не делать того, до чего у его предшественников, видимо, просто не дошли руки.
— Только не это! — умоляла она. — Подумай сам: если неверные, греки и римляне, поклонявшиеся стольким богам, смогли создать на своей земле такие чудеса, то почему бы этого не сделать и туркам?
Этой ночью он любил ее так, что Сафия успокоилась — видимо, ей удалось его переубедить.
Время шло. Но для любовников оно промелькнуло незаметно. А для обычных смертных оно растянулось на семнадцать или даже восемнадцать месяцев, которые либо летели незаметно, либо тащились нестерпимо долго — в зависимости от того, что ждало их впереди.
По христианскому календарю заканчивалось лето 1565 года, но здесь, в Магнезии, долгие прогулки в паланкине совсем не были такими тягостными, как те, когда она жила в гареме, в Константинополе. В первую очередь потому, что тут ее почти всегда сопровождал Мурад. Для этого в носилках по его приказу поставили удобное двойное кресло.
Он ехал вместе с ней и сейчас, велев открыть верх носилок, чтобы наслаждаться утренним солнцем, пока оно еще не взялось припекать по-настоящему. Любовники собрались на охоту.
— «Ты не должен брать с собой на охоту Сафию, сын мой! — прочитал он вслух первые строки полученного утром послания. — Иначе тебе грозит подвергнуться всеобщему порицанию. Ты станешь посмешищем!..» — Предательская влага, блеснувшая в его глазах, и дрогнувший на мгновение голос подсказали Сафие ответ. Письмо было от матери принца, Нур Бану.