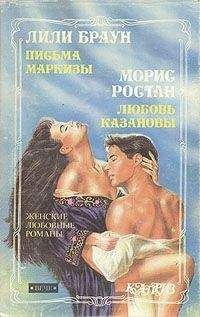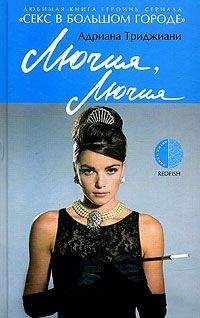Они поднялись по лестнице, показавшейся Казанове великолепно отделанной, потом очутились в покое, обитом черным шелком и отделанном серебряными украшениями с семейными гербами — это была комната его незнакомки. Две свечи скудно освещали только то место, где они стояли. В глубине Казанова различил кровать, с задернутыми со всех сторон занавесями. Долорес пригласила его сесть. Он бросился перед ней на колени и покрыл поцелуями ее ручки.
— Вы любите меня? — воскликнула она со странным выражением страха.
— Можете ли вы сомневаться в этом? — пылко ответил он. — Мое сердце, моя жизнь и все, что у меня есть, все это принадлежит вам.
— Тогда поклянитесь на этом распятии, что вы окажете мне ту услугу, о которой я вас попрошу.
— Клянусь! — произнес Казанова.
— Вы благородный человек… Пойдемте.
Она увлекла Казанову — к кровати… В страстном нетерпении он хотел отдернуть полог, но ее взгляд остановил его. Никогда еще человеческий взгляд не выражал такого горя, страха и отчаяния.
— Что с вами? — спросил он, прижимая ее к сердцу. — Вы дрожите… Как вы дрожите!..
— О, я дрожу не от страха… — пробормотала Долорес. — Но вы не дрожите? Нет? Ну так — смотрите!
И она отдернула полог кровати. На кровати лежал труп молодого и очаровательно красивого человека. Беспорядок одежды и поза его выдавали, что смерть застигла его в самую неожиданную минуту. Его юная красота могла бы напомнить того Стендалевского Октава, которого матросы не могли похоронить без слез. Глаза его были сомкнуты, скрыв навсегда от Казановы тайну их цвета… Лицо его было бледнее, чем даже эта маленькая, бледная ручка, мелькавшая из-за жалюзи, точно цветок жасмина. Но неподвижный, похолодевший, он все же был так прекрасен, что это ложе смерти казалось ложем любви. Что бы то ни было, красота пережила его, и в самой смерти она сохраняла что-то сладострастное, ласкающее и таинственное. Как знать? Может быть, это только обморок, от избытка любви и ласк, может быть, он сейчас очнется?
— Что вы совершили! — воскликнул Казанова.
— Правосудие… — воскликнула Долорес. — Этот юноша был моим возлюбленным, и я убила его. Я умру… Но я не могла поступить иначе. Одно слово оправдает меня — он изменил мне.
— Ужасное дело… — прошептал Казанова. — Самое ужасное злодеяние на земле!..
С того вечера, когда, возвращаясь с Лидо в гондоле с двумя гребцами, он видел безмолвные похороны маленькой самоубийцы — никогда еще смерть не примешивалась так властно к любви. Он переводил взоры с бледной Долорес, стоявшей неподвижно, на неподвижно лежавшего убитого красавца.
— Вы дворянин, — продолжала она, — вы поклялись мне хранить тайну. Вспомните об этом! Вспомните, что вы поклялись мне только что на этом распятии, что окажете мне ту услугу, которую я попрошу у вас.
— Чего вы требуете, сеньора?
— Унесите этот труп с глаз моих… За этой улицей протекает река, отнесите его туда, чтобы я больше не видела его, прошу вас, умоляю вас…
Она бросилась к его ногам, прекраснее и бледнее, чем когда-либо.
— Сеньора, — спокойно ответил Казанова, — вы требуете моей жизни… Возьмите ее. Я повинуюсь вам.
Выражение облегчения промелькнуло на лице Долорес.
— Ах! Какой прекрасный ответ! Я не любила тебя, а сейчас я готова тебя полюбить. Но я не достойна тебя.
И разразившись рыданиями, она кинулась на ложе рядом с мертвецом. Так в этих ужасных условиях она хотела сохранить как странное преимущество, свое отчаянное кокетство, свою смертельную потребность нравиться. Она хотела оставить у Казановы сладостное воспоминание об этой страшной минуте, воспользоваться своим очарованием… Хотела в его поступке, спасавшем ее, почувствовать волнение того желания, которое повлекло к ее ногам Казанову.
— Я недостойна вас! — повторяла она, рыдающая, и вся озаренная, посеребренная светом свечей, лучезарнее, чем только что была озарена луною.
— Сеньора… — промолвил Казанова, — не надо слабости… Поспешим.
Он решительно поднял мертвеца, казавшегося ему другом — так много нежное и мечтательное выражение мертвого юного лица говорило его сердцу и памяти! Его трогало, что труп так легок, совсем как Беллино, которого он как-то нес на руках после утомительной прогулки… И он сам когда-то был так юн, так красив… И он в двадцать лет был способен рисковать жизнью из-за своего увлечения… Да и сейчас он рисковал жизнью!
Вид темного плаща, которым Долорес прикрыла незнакомца, напомнил ему, что только несколько минут тому назад юноша был полон жизни и силы, входя в роковую маленькую дверь… На секунду он зашатался от ужаса. Легкое тело словно вдруг отяжелело в его сильных руках. Ему показалось, что он не донесет его… Тогда Долорес, вдруг поняв опасность, которой она подвергала его, внезапно решила помешать ему:
— Нет, стойте! — вскричала она. — Стойте! Вы погибли, если вас кто-нибудь встретит!
Но рыцарь наслаждения уже направлялся к выходу со своей ужасной ношей. Долорес следовала за ним со свечой в руках. В одно мгновение он очутился на улице, около берега ночной реки… Дверь уже заперлась за ним, та дверь, с которой улыбался деревянный ангел… Он был один в ночи, с этим незнакомым ему мертвецом — прелестное лицо которого казалось при лунном свете побледневшим от избытка наслаждения… Он бросил его в реку, и ему показалось, что весь Мадрид должен проснуться от глухого звука падения тела в воду… Все кончено.
Не пригрезилось ли ему все это? Не заснул ли он перед этим таинственным домом, зачарованный маленькой бледной ручкой? Он мог бы поверить этому, не ощущай он на своей одежде липкого присутствия крови…
Но где же Долорес? Неужели такое повиновение не стоило хотя бы поцелуя? Она не подарила ему и взгляда… Она спит наверно, освобожденная от своего страшного преступления — спит на преступном ложе, и ее маленькая, необыкновенная, незабываемая, такая бледная ручка — эта смертоносная ручка — беспомощно свешивается с кровати…
* * *
Какую же страну посетить еще, если не уезжать из Европы? Все ли еще нужно пожирать пространство? Не пора ли остановиться? Почему бы не испросить у Фридриха Великого той должности в кадетском корпусе, которую он когда-то предлагал ему?
Казанове не было времени видеть, как он старился. Ему для этого слишком было некогда. Но как-то в Барселоне, вернувшись к своей старой привычке, он взглянул в зеркало… Долго рассматривал себя с любопытством. И ему показалось, что он видит кого-то чужого, кого-то нового перед собой. Нет, конечно, это уже не был тот Керубино, которого любила Лючия, и даже не тот приятный авантюрист, чей любопытный портрет оставил нам принц де Линь!