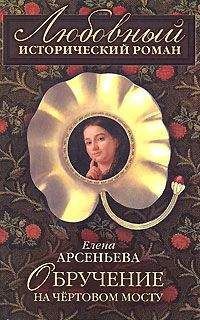– Пеш-ком? – раздельно повторил Адольф Иваныч. – Уй-ти? Как это – уйти? Куда?! А закон?
– Что – закон? – раздраженно воскликнула Ирена, однако Адольф Иваныч только ухмыльнулся в ответ своими влажными губами, а вместо него ответил Булыга:
– Вот то-то и оно: закон зачем? С благу-мату его сочинили, что ли?
– Пошел вон! – теряя голову, крикнула Ирена, однако Адольф Иваныч выставил руку.
– Минуту, – твердо произнес он. – Ты, очевидно, не слышала, что я вчера сказал? По мужу – раба. По холопу – раба!
– Нет, – огрызнулась Ирена. – Отстаньте и дайте мне пройти!
Булыга не то захохотал, не то заржал от восторга. Несомненно, этот прилив радости вызвало у него искаженное от бешенства лицо Ирены, и она из последних сил попыталась взять себя в руки, чтобы не доставлять удовольствия мерзкому холую.
– Постараюсь объяснить попроще, – спокойно сказал Адольф Иваныч. Это издевательское спокойствие, как уже успела заметить Ирена, появлялось у него в минуты особого, лютого гнева, когда он предвкушал последнее унижение жертвы. Сейчас его жертвой, несомненно, была она. – Итак, закон, – врастяжку проговорил Адольф Иваныч. – Закон гласит, что вольная женщина, сочетавшаяся браком с крепостным, и сама полностью попадает в крепость его господину. Стало быть, с той минуты, как ты обвенчалась с Игнашкою, ты стала крепостной господина Берсенева. И, согласно его доверенности, находишься в полной моей власти. Как бишь зовут тебя? Ирина… Арина ты! Аринка, Игнатьева баба. Арина Игнатьева, крепостная… Понятно?
– Жена связана законом, доколе жив муж ее! А Игнаша помер! – раздался чей-то отчаянный вопль, и Ирена увидела Емелю, который выскочил из толпы и замер, прижав кулаки к груди, словно до смерти испугавшись собственной смелости.
– Чт-то? – тихо переспросил Адольф Иваныч, и вокруг все замерло. – А ну, раскатайте-ка его хорошенько!
Булыга ринулся вперед. Похоже, он был уверен, что простые человеческие отношения могут уронить его достоинство, и потому держал себя так, словно получал от жестокости великое наслаждение. А впрочем, так оно и было.
Он вцепился в Емелю – тот даже не сделал попытки вырваться, – в одно мгновение сорвал с него всю одежду вплоть до исподнего, свалил на землю, вскочил верхом на ноги и начал полосовать спину короткой, толстой плетью.
Ирена смотрела расширенными глазами, как на тощем, бледном теле вспухают алые рубцы, и невольно считала удары вместе с Адольфом Иванычем, который громко отчеканивал:
– Раз, два… пять… восемь… десять… Довольно пока!
Булыга остановился с видимой неохотою. Встал, схватил Емелю за волосы, вздернул на ноги, но едва отпустил, тот рухнул на четвереньки и замер в постыдной позе, уткнув лицо в землю.
– Угомонился? – хохотнул управляющий. – Все равно будет, как я сказал.
– Будет! – с рыданием выкрикнул Емеля. – Гнида тоже вошью беспременно будет!
– Ах ты… – Булыга с яростью припечатал его пинком пониже спины. Емеля распластался на траве и более не шевелился.
Адольф Иваныч торжествующе огляделся – и вдруг красный рот его приоткрылся.
– А эт-то еще что? – просвистел он, ткнув куда-то указующим перстом, и Ирена увидела гору корзин и баулов, сваленных под крыльцом.
Да ведь это ее с Игнатием вещи! Их багаж!
Адольф Иваныч кивнул – Булыга тотчас приволок огромную картонку, перевязанную зеленой лентой, открыл.
Ирена тихо ахнула, когда голубая, пенистая волна кружев хлынула на зеленую траву лужайки. Ой, это платье, единственное из купленных «приятельницей» Игнатия, которое пришлось ей по вкусу. Однако оно было с огромным кринолином, а потому Ирене не представилось случая надеть его.
– Одёжа! – радостно сообщил Булыга, хватая платье. – Гляньте-ка, обручи в его вздеты!
Он вертел платье так и этак, пытаясь добраться до хитроумно вшитого кринолина. Тонкий, воздушный муслин на глазах вянул в короткопалых грубых лапищах.
Адольф Иваныч утробно хрюкнул и резко выставил вперед руку:
– Топор. Топор мне, ну!
Топор явился будто по волшебству. Адольф Иваныч кивнул Булыге – посторонись, мол! – и со всего маху рубанул лезвием по кринолину.
Раздался жалобный треск. Полетели воздушные голубые клочки; пышное облако, громоздившееся на траве, жалобно просело.
Рубанув еще раз – для надежности, – Адольф Иваныч посмотрел на Ирену. Он поигрывал топориком, а она не могла оторвать глаз от блестящего лезвия, к которому пристал крошечный голубой лоскуток.
Вдруг нечем стало дышать. Толстое лицо и огромные губы Адольфа Иваныча надвинулись, а потом он сделался маленьким-маленьким, и его закружило в черном вихре, который пронесся перед взором Ирены, занавешивая тьмою все кругом. Она схватилась за горло и вскрикнула так отчаянно, словно у нее разрывалось сердце.
Этот крик отнял последние силы. Ноги подкосились, потом что-то сильно ударило ей в спину и голову. Черное небо навалилось сверху – и все померкло.
Ирена потянулась и открыла глаза. Странно – что это сделалось с потолком ее опочивальни? Почему он сложен из бревен, не оштукатурен, не по€белен, не расписан? Где хорошенькие веселые амурчики, которыми отец приказал разрисовать потолок, когда подросшей Ирене отвели эту просторную комнату вместо маленькой детской?
Ах да! Она ведь не дома! Она ведь сбежала с Игнатием! И этот потолок, наверное, принадлежит тем нумерам близ съезжей станции, где они ночуют и откуда завтра отправятся в Лаврентьево, чтобы…
Лаврентьево! Игнатий!
– Гля, раззявила буркалы! – раздался рядом женский голос, исполненный такой злобы, что Ирене стало зябко.
Привстав, повернулась. Разом два открытия ее поразили: во-первых, на нее с истинной ненавистью смотрела дородная девица в простом крестьянском наряде и с самыми рыжими на свете волосами, какие только приходилось видеть Ирене, – ну просто-таки оранжевого, морковного, словно нарочно выкрашенного цвета; а во-вторых, Ирена обнаружила, что и сама она одета совершенно так, как эта девушка: в рубаху из небеленого полотна и сарафан, только у девушки он был из синей китайки, а у Ирены из какой-то грубой ткани цвета… раньше она назвала бы этот цвет маренго-клер, но в применении к сарафану это звучало глупо, и приходилось признать, что он был просто-напросто мутно-серого цвета.
– Почему я так одета? – растерянно обратилась она к рыжей девушке.
– А как тебе еще одеваться? – грубо спросила та. – В шелка да бархаты с железными обручами?
Ирена мигом вспомнила, что произошло накануне. Нет, не все, ибо вспоминать все было слишком страшно. Поэтому она не пустила свою память дальше «железных обручей» и их зверского уничтожения. Этого было вполне довольно, чтобы дрожью задрожать и начать судорожно всхлипывать. Значит, когда она рухнула без памяти, ее переодели. Чьи-то чужие, отвратительные руки – может быть, мужские, может быть, самого Адольфа Иваныча или Булыги! – стаскивали с нее платье, сорочку, корсет, ботиночки, чулки и панталоны.